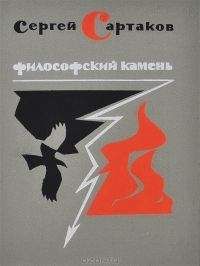— Это ты, конечно, как знаешь. Выбор твой. А только места и у нас хватит. Мы со Степанидой жизню прожили, а потомства своего не оставили. Была одна дочечка, да трехмесячная и померла. Взяли тогда приемышку из подкинутых. И тут не вышло радости: : мать-кукушка объявилась, отобрала. Совесть ее, сказала, заела. — Он как-то жалобно позвенел ложечкой в стакане чая. — Увезла. А потом слух прошел: опять где-то канула. Искали мы, искали во всех местах, да без пользы. Выходит, и нас вдругорядь осиротила и счастья дочернего кровинке своей не дала.
Слезы Людмиле туманили глаза, И от грустной истории, рассказанной Епифанцевым. И от той отеческой доверительности, с какой он принял ее у себя в доме. То была она никому не нужна, всем постыла, в петлю лезть головой хотелось, и вдруг свет засиял.
— Герасим Петрович, да вы… Я не знаю, как и ответить вам… — заговорила она, сбиваясь в щемящем сердце волнении. — Вы же меня вовсе не знаете… И потом, что же я… Вот и товарищ Петунии тоже с лаской ко мне… За что?
— Стало быть, ты всем сразу пришлась по душе, — с удовлетворением проговорил Епифанцев, будто сам он вырастил и воспитал ее. — Ну и не стесняйся этого. — Засмеялся: — Хотя и стесняйся. Девице это лучше подходит. И опять говорю: нам ты в доме не в тягость, а в радость будешь, ежели и дальше такой себя поведешь. Как иначе? А что и товарищу Пeтунину ты понравилась, — это вот в редкость. Не так часто я с ним дело имею, а знаю, человек он куда как строгий, холодный. Даже, сказал бы я, жестокий к другим нарушителям. Одно слово: прокурор. А, гляди, к тебе как растаял. Стало быть, стоишь того. Поддержку тебе он сильную может дать.
— Он и с Тимой хорошо, поговорил. С уважением. Даже на поезд вместе пошли.
Людмиле виделось, как там дружески беседовали они, может быть, да, конечно, о ней говорили. А если с Петуниным Тима по-доброму познакомится, кто его знает, как это в жизни может потом для них пригодиться.
Она в мыслях уже не отделяла себя от Тимофея.
Беседа затянулась до глубокой ночи. И хотя разговаривать с Епифанцевым было очень интересно, дрема стала одолевать Людмилу. Это же только подумать, день выдался какой необыкновенный! Такого полного дня, отбирай по крупицам, и за год не. соберешь, не составишь.
Разморенная от тепла, сытного ужина и домашнего уюта, она сидела и пьяно пошатывалась, готовая повалиться, как попало, на стол и мертво заснуть.
Герасим Петрович наконец это заметил.
— Э-э, как тебя, девица, растомило! Ну, давай подыматься.
Все в таком же сонном оцепенении Людмила помогла ему прибрать со стола, вымыть посуду, думая только: ох, не побить бы! — и прислонилась устало к стене.
Епифанцев порушил горку пуховых подушек на постели, выдергивая полосатый, простеженный шпагатом матрасик. Сказал, где постелить постель, где взять свежую простыню, Людмила механически принимала все, что давал ей Герасим Петрович. Устроилась она на узеньком диванчике за переборкой в кухне. Там от плиты было особенно тепло. Качнулась, и словно бы потянуло ее в глубокую, расселину между скалами. Так захватило дыхание.
Напоследок Людмила едва расслышала заглохшими вовсе ушами:
— Спи спокойненько! Утро вечера мудренее.
— Спасибо, Герасим Пет…
И упала на самое дно. Поплыла, счастливо покачиваясь на пологих волнах.
Людмилу, неведомо почему, словно подбросило на постели. Она открыла глаза.
Не снимая промокшей жакетки, посреди кухни стояла Степанида Арефьевна, только что вернувшаяся с ночного дежурства, растирала посиневшие от холода кисти рук, говорила возбужденно:
— …вот то и дело, отец, что у нас и в ночь эту. На путях между переездом и платформой. Санитары с вокзала рассказывали. Они мертвяка как раз из вагона вытаскивали, в больницу потом на «Скорой помощи» отправили. И будто бы военного какого-то забрали, он, мол, пихнул этого человека под поезд.
— Ты гляди-ка, мать, что делается! — Епифанцев торопливо одевался. — Ну, шпана шалит всякая, понятно. А военный-то с чего же? Может, подлюга какой переодетый? Не трепня ли все это пустая?
— Да говорю же тебе, отец, с поезда по путям сейчас сама я прошла нарочно. Дождиком за ночь хотя и посмывало, но есть местами так, что и вполне еще кровь заметная. Народ все время там табунится.
— Ну, пойдем, мать, пойдем. Показывай! — Епифанцев обернулся к Людмиле. — Не спишь? Разбудили мы тебя своим говором, девица. Да, вишь, тут происшествие-то какое. А мы с тобой вчера сидели, чаи распивали, сном-духом не ведали, что, может, как раз в это самое время на рельсах кого- то убивали.
Людмила одевалась. Торопливо застегивала пуговицы на кофточке непослушными пальцами. Слово «военный» ее обожгло. Она знала: к Тимофею-то ведь это слово никак не могло относиться. Не толкнет, же он человека под поезд! А вот сердце все же заныло. Так больно заныло, что хоть диким криком в тоске закричать.
Надо скорее в Москву, в Лефортово. Повидать его, успокоиться. — Герасим Петрович, а я тоже с вами, — сказала она.
Оставаться здесь ей одной было бы невыносимо.
Дождик все моросил. Мутным туманом задернут был лес. С ветвей срывались крупные капли. Глинистую тропинку совсем развезло.
Епифанцев вдруг спохватился:
— Мать, а чего же это мы через лесок напрямую поперлись? Нам бы на линию куда лучше через переезд было выйти. Хоть и крюк загнуть, а посуше.
— Да я и не подумала. Все тут ходят.
На насыпи толпились любопытные. Но их уже оттесняла милиция. Ходили следователи вдоль рельсов, разглядывали бороздки и ямки в мокром шлаке, выдавленные каблуками сапог, рулеткой замеряли расстояния.
На правах и в форме сотрудника железнодорожной охраны Епифанцев все же протиснулся в круг. Провел за собой и Степаниду Арефьевну с Людмилой.
Потихоньку спросил кого-то из знакомых, не известны ли какие-нибудь подробности насчет пострадавшего и злодея. Тот так же тихонечко ответил Епифанцеву:
— Да на вроде бы какого-то прокурора убили.
И у Людмилы потемнело в глазах.
Степанида Арефьевна тянула ее к шпалам, показать, где остались заметными еще пятна крови. Она ничего не видела. И не могла, не хотела смотреть.
— В Москву, в Москву, Герасим Петрович, пожалуйста, отпустите меня! — просила она.
Ей нужно было как можно скорее встретиться с Тимофеем и узнать, услышать от него самого, что все хорошо, что «прокурор» и «военный», о которых толкуют здесь, никакого отношения ни к нему, ни к Петунину не имеют.
— Да уж вместе съездим давай, чего тут, я понимаю, — сказал Епифанцев. Сомнения стали одолевать и его. — День у меня как раз от службы свободный. А ты в Москве одна не ровен час заплутаешься. Мало ли куда нам с тобой поехать придется! Мать, ступай домой одна.
Но уже на Северном вокзале подтвердилось, что действительно жертвой ночного покушения оказался. Петунии. Фамилию военного назвать Епифанцеву не смогли. Сразу, дескать, его отвела милиция к коменданту.
— В Лефортово, Герасим Петрович, поедемте прямо в Лефортово! — торопила Людмила, едва шевеля побелевшими губами.
Дневальный их не пропустил в помещение, вызвал караульного начальника. Тот выслушал, сухо ответил:
— Такого рода справок о наших курсантах посторонним лицам мы не даем.
— Я не посторонняя! — воскликнула Людмила.
— А кто вы ему?
Она потупилась. Не могла произнести вслух: «Невеста!» — трепетное слово, которое и Тимофей еще ни разу ей не говорил.
— Ну, я тогда напишу ему записку. Передайте. Ну, передайте, пожалуйста! Пусть он мне ответит. — Людмила смотрела умоляюще, просительно прижимала руки к груди. Ей вторил, поддерживал Епифанцев.
Караульный начальник отрицательно качнул головой. Он знал о ЧП — чрезвычайном происшествии, но не имел права разглашать его.
— Не полагается.
Осторожно повернув Людмилу за плечи, Епифанцев вывел ее из проходной.
Куда же теперь? Где узнать? Епифанцев тер ладонью небритый подбородок; соображал. По гражданской линии справляться о военных в милиции ли, в прокуратуре ли — не ответят. Попробовать к коменданту города разве?
— Герасим Петрович, съездимте еще вот по этому адресу, — устало и как-то безнадежно попросила Людмила, вспомнив о записке, оставленной Тимофеем. — Там живут хорошие друзья, может, они чем помогут.
Окаменевшая, она сидела в трамвае, не замечая, стоит или, позванивая, катится по рельсам вагон. Не слушала, что говорит ей Герасим Петрович.
Теперь она уже, кажется, знала все. И только надо было в этом убедиться. И понять.
Но понять такое, все равно кто и что ей ни рассказывал бы, — понять невозможно. Она знала теперь, что это было. И знала твердо, что этого быть не могло.
Полина Осиповна стирала белье. Стряхнув пушистую мыльную пену. с коротких полных рук и вытерев их о фартук, она недоуменно взяла записку у Людмилы. Пригласила сесть. И стала читать. Вдруг вскинула голову.