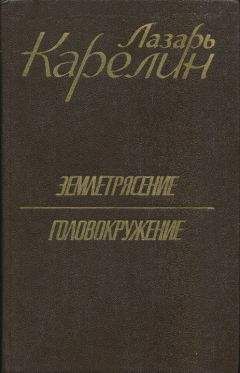Да, ну а как же Птицин и Марьям и Денисов? Что-то непонятное свершилось в отношениях этой троицы. Непонятное для Галя. Что ни говори, а он был ещё слишком молод, он не умел ещё многому из жизненных явлений найти своё место. Но его страшно интересовало, что же у них там происходит. И больше всего интересовал его Птицин. Тот, казалось, примирился со своей участью. Казалось, он вовсе и не любил Марьям, и когда она ушла, ничего с ним особенного не стряслось. Он не запил, он не уехал, его даже не оставила обычная чуть ироничная весёлость. Загадка! И ещё большая загадка: Птицин не сторонился Денисова, Марьям. Их часто видели втроём. Похоже было, что Птицин подружился с Денисовым.
Леонид ничего не понимал. Ему что‑то объясняли, на что‑то намекали, но он всё равно ничего не понимал. А хотелось понять, важно было понять. Для себя! Мир ширился, мир затуманивался перед глазами. Много сложного, много скверного, много тёмного утаивалось в том жизненном тумане. Надо было понимать, понимать, понимать… И вот он идёт в дом к Денисову, идёт, приглашённый туда Марьям, ведомый самим Денисовым. Чудеса! И они проходят той самой улицей, на которой ещё недавно жил у Марьям Птицин, где Птицин и сейчас живёт, Марьям уступила ему эту комнату. Ну и ну! И они соседи почти, Марьям с Денисовым и Птицин. Вечерами они вместе — об этом говорит вся студия, это так. А потом Птицин уходит к себе. Он остаётся один в своей комнатёнке. И он не спивается там, не пытается повеситься. Проходит ночь, и он появляется в студии, весёлый, бодрый. Разве что никому в глаза не глядит. Только разве что это.
— Пришли, — сказал Денисов.
Он отпер калитку в ограде, которая, как и у большинства домов на этой улице, была продолжением стены дома, шла вровень с крышей. Поэтому и не понять было с улицы, велик ли сам дом. Он смотрел на улицу всего двумя зарешеченными окошками.
Вошли. Так оно и оказалось: со двора дом производил куда более внушительное впечатление. Он был как бы обращён лицом во двор, а сам двор, отгороженный от соседей высоченными стенами, был как бы продолжением дома. Леонид привык уже к подобной архитектуре, она здесь называлась персидской. По–видимому, такой дом понравился бы и англичанину, провозгласившему: «Мой дом — моя крепость». Да, это была крепость, маленькая крепость в тесном ряду подобных же крепостей. И она укрывала семью и прежде всего женщин от дерзких взглядов куда надёжнее, чем паранджа. Во дворе такого дома можно было ходить хоть голым, ни соседи, ни с улицы тебя не увидят. И двор такого дома не был в обычном смысле двором, конечно же он был продолжением дома, в нём разрослись деревья, дававшие тень, тенистой аркой переплетались виноградные лозы, журчал крохотный фонтанчик, роняя ломкую, скупую струю в крохотный, размерами с таз бассейн.
— Восток, восток, — сказал Леонид, останавливаясь и оглядываясь. Ему нравились эти Дома с потаённым своим миром, из «Тысячи и одной ночи» дома. Стоило только переступить порог такого дома, войти в его двор, как тотчас перед глазами возникали картины–тени, будто наяву начинал жить какой‑то из детства сон. Из сказки сон. И виделись в том сне закутанные с головой женские фигуры, наклонённые в стремительном лёгком шаге, пугливые, с вдруг мелькнувшими прекрасными глазами. А в шорохе фонтана слышалась музыка — незнакомая, диковатая, но словно и родная, некогда, давным–давно когда‑то слышанная. Восток, восток… Ведь и он был с востока, если отбросить в сторону, скажем, тысячу лет. Да и что они значат, эти десять столетий, если вспомнить о вон тех горах вдали, которые и тогда были все теми же самыми.
— Хорошо у вас тут, — сказал Леонид.
— Верно? — Денисову тоже у себя нравилось. Он ещё не привык к своему дому, и он тоже остановился, оглядываясь, находя, должно быть, все новые и новые милые глазу уголки.
Даже зимой двор–сад не обезлистел, все только выжелтилось, подсохло, утихло ненадолго. Здесь жила осень, а не зима, и даже виноградные гроздья кое–где сохранились на самом верху, куда не дотянуться рукой.
Из дома в накинутом на голову платке, который укрывал и всю фигуру, вышла женщина. Она не заспешила навстречу Денисову. Она остановилась за столбиком открытой широкой террасы, прячась за этим столбиком, ведь в дом пришёл посторонний. Сон стал явью, Леонид загляделся на эту женщину, кутавшуюся в платок, боявшуюся выставить вперёд и кончик туфли. Кто такая? Откуда она здесь?
А Денисов уже шёл к ней, забыв обо всём на свете, как слепец, тыкаясь о деревья. Бог ты мой, да это Марьям! Она подняла руку, нещедро приоткрыв навстречу Денисову своё громадноглазое лицо. Но у Марьям никогда не было таких громадных глаз. Выходит, что были. Это была Марьям, но только не нынешняя, а женщина из минувшего, из какого‑нибудь до нашей эры столетия. И глаза у неё под платком были или казались, а это одно и то же, громадными, как у женщины из восточной легенды.
Леонид несмело двинулся к террасе. Марьям не замечала его, не отозвалась на его поклон. Она была строга и с Денисовым. Она лишь подождала, когда он подойдёт, и тут же, гибко уклонившись от его рук, ускользнула в дом.
— Марьям! — каким‑то не своим голосом позвал её Денисов. Он обернулся к Леониду, огорчённый, пристыженный. — Ушла. Сердится.
— На что? — спросил Леонид, испытывая замешательство.
— Да вот, что не похвалил её игру. Беда мне с ней! — Денисов все не мог совладать с лицом и ладонью жёстко растирал его, как после бритья, стараясь скрыть от Галя своё смущение. — Вы уж, Лёня, подключитесь. Ну, соврите что‑нибудь. Вам проще.
Они двигались по террасе, тянувшейся от конца до конца вдоль стены дома, как широкая ступень в сад. Летом здесь спали и была здесь кухня. Вот и сейчас в углу жужжал примус, злясь на то, что ветер сдувает его пламя. И стояла на примусе большущая сковорода, булькающая чем‑то вкусным, горячим.
Женщина из легенды, оказывается, несколькими минутами раньше разожгла этот примус, поставила на него эту вполне современную сковороду. Но запах, запах жареной баранины был все тем же, что и тысячелетия назад.
— Ладно, совру что‑нибудь, — пообещал Леонид, сглатывая слюну.
В комнате, куда Денисов ввёл его, Марьям не было. Денисов заспешил в соседнюю комнату, рукой приглашая Леонида снять пальто и садиться на стоявшую в углу тахту.
Комната была почти пуста, недообставлена. Свежие стены источали запах масляной краски. И ещё один запах жил здесь — запах острых духов и молодого женского тела, загнанного в трудную работу балерины. Почему‑то подумалось, что такой же воздух жил и в гаремах. Вместе с запахами жирной баранины и дымком жаровен. Вместе с запахами каких‑то неведомых плодов. И почему‑то стало невыносимо дышать этим воздухом, как бывает трудно наблюдать чужое счастье.
— Жрать хочется! — вслух сказал Леонид, найдя самое простое объяснение вдруг сиротскому своему чувству.
Над тахтой висел портрет мальчика, мастерски выполненная большая фотография. Мальчику было лет семь, и это, конечно, был сын Денисова. Отцовские с прищуром глаза, отцовский нос уточкой. И ещё отцовское что‑то в губах, в очерке щёк, во всём складе лица, уже обретшего характер. Тут было и упорство, и упрямство, и хитреца, тут явственно проглянула доброта, этакая размашливая порода. Чудо — крохотный мальчуган, а сколько уже отдано ему, какая уже в нём видна изготовка к жизни. И как по этому щекастому личику легко читать всё то, что затаилось, стало затушёванным в лице отца. Эта затушёвка — это и есть опыт жизни, маска жизни, не так ли?
Вернулся Денисов.
— Сейчас Марьям выйдет, наряжается, — сказал он, хмурясь и морщась, досадуя на себя за что‑то. Впрочем, ясно за что. Он бранил себя сейчас, что так замельтешил перед Марьям, что таким его увидел Леонид. И он, должно быть, собирался исправить впечатление, и хмурился, и морщился, вспомнив, что сердит, что просто зол на Марьям. Да, мальчугану на фотографии громадную предстоит прожить жизнь, трудную при этом, пёструю, чтобы подравнять своё лицо с отцовским. А изначала, а в юности ведь и Денисов был так раскрыт, так улыбчив, доверчив.
— Вы любите сына? — спросил Леонид.
— Очень.
Вошла Марьям. В строгом платье, косы короной уложены под затканной шапочкой. Какое там дрянцо! Королевна, «дочь царя из царей Индии», прекрасная, «подобна луне в полнолуние», как сказала бы о ней Шахразада. Девочка — женщина — повелительница. И ничего не вышло у Денисова с его решением повести себя с ней построже, как она того заслуживала, если вспомнить её развязную игру в эпизоде у дувала. Денисов обмяк, струсил, восхитился, поглупел, расплывшись в улыбке. Леонид не знал, на кого смотреть: на царственную ли Марьям, на раболепствующего ли Денисова, столь не похожего на самого себя. И она и он не были самими собой. Это был спектакль. И тут, конечно, Марьям была на высоте, тут она снова была актрисой, и отличной. Ну а Денисов был жалким статистом. Да он и не играл. Это была его жизнь, его новая роль в жизни, не из лёгких, надо сказать, роль. Но он был счастлив. Этот статист прямо‑таки излучал счастье. Его неволя была ему в радость.