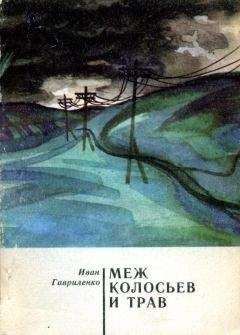Прибежали парни-геологи из палатки на той стороне. Они ныряли долго, настойчиво; — до посинения, до гусиной кожи. Все было напрасно. Тела удалось отыскать лишь к вечеру…
— Ось туточки само все и произошло, — объясняли женщины, показывая места на берегу и на реке.
Потом они ушли — наступила пора дойки, — а я остался один, пытаясь представить, как здесь все было когда-то. За моей спиной шумело стойло. Шурша, поднималась в ведрах молочная пена, коровы лениво шлепали хвостами по широким спинам. А молодые доярки разыгрались с шофером молоковозки — он там гнался за кем-то, а они кричали убегающей:
— Шура, Шура, беги!
В моей голове привычно стали складываться газетные строчки: «Высокие облака. Песок. Тихий шелест вянущих трав. Здесь, вот с этого обрыва она бросилась навстречу горячему ветру, задохнувшись в жгучем желании помочь человеку. И на этом клочке земли отпечатались ее шаги, ставшие последними. Текущие с обрыва песчаные струйки давно заровняли отпечатки ее ног. Но это не страшно, потому что…»
Тут у меня застопорило. А почему, собственно, не страшно?
И я в первый раз подумал, что из моей поездки может ровно ничего не получиться. Я представлял себе неизбежный разговор с секретарем редакции, потом вызов к главному. Уж сейчас-то, после того, как я не согласился с Сасом, Петр Федотович за все мог отыграться. Да вряд ли и Валерий Михайлович от своей затеи так просто отступится — он при своем нынешнем положении еще и кое-кого из райкома мог подключить.
В это время сверху, от вагончика, закричали:
— Эй, корреспондент, ехать пора!..
Возвращались мы той же дорогой.
Я смотрел, как появляется на горизонте усадьба совхоза — белые кубики домов под зелеными купами иссеченных ветром деревьев. Интересно, после случая на реке изменилось хоть что-то здесь?
По возвращении я снова отправился в контору. Парторга еще не было. Тогда, бродя полутемными коридорами, я стал искать плохо запомнившуюся дверь кабинета Григория Григорьевича, дернул первую попавшуюся ручку и попятился. Посередине комнаты, в которой горел электрический свет — окна были заставлены какими-то плакатами, — стоял гроб. Тут же, на одеяле, расстеленном прямо на полу, лежало и тело мертвого электрика. Человек в очках с тонкими дужками и карандашом за ухом, ударами молотка поправлявший рубанок, вопросительно посмотрел на меня.
— Мне Григория Григорьевича, — голос мой прозвучал неуверенно.
— Это в следующем кабинете, — объяснил плотник. — Но его нет. А вы мне папироски не дадите? С утра не курил.
Я протянул ему пачку сигарет и огляделся. В кабинете был еще один человек. Он сидел на стуле над телом погибшего, казалось, довольно безучастно. Однако время от времени он резко наклонялся вперед и, оскаливая зубы, прикусывал нижнюю губу — будто пытался удержаться от смеха. Всякий раз после этого он отворачивался к окну, сидел, обессиленно опустив плечи, потом снова оскаливался. Говорили, у электрика не было ни кола, ни двора и ни одного близкого человека на целом свете. Однако вот, видимо, кто-то нашелся, приехал…
Я прикрыл потихонечку дверь и ушел.
В гостинице Перетятько ожесточенно спорил с Иваном Васильевичем, что-то доказывал ему.
— Да ну тебя! — отмахнулся от него Иван Васильевич. — Давайте лучше в гости, что ли, куда пойдем. У меня тут знакомый учитель есть… Ты как? — обратился он ко мне.
Через полчаса мы уже вваливались в просторный со множеством высоких распахнутых дверей дом, и учитель, простоволосый, грузный, тяжело дышащий от жары, поочередно пожимал нам руки и в притворном ужасе говорил:
— И чем я вас только угощать буду? Вы, небось, и горькую пьете, и раков вам подавай!
— А что, есть раки? — оживился Иван Васильевич.
А еще через полчаса, когда от раков осталась лишь шелуха на тарелке, мы пересели за другой стол, чтобы играть в домино. Иван Васильевич, враз отяжелев, пустился в политичнейшие разговоры с хозяйкой, а между Перетятько и учителем тотчас вспыхнул спор — старинный, давний, о значении добра и зла в нашей жизни.
Перетятько то и дело забывал ставить костяшки домино, он горячился, размахивал руками. А учитель говорил мало, негромко, внимательно следя за ходом игры.
Хозяин рассказывал:
— …Чинил крышу, упал. Там и высоты-то было, наверное, метра полтора, да, видно, ушибся. Ему бы к врачу — он не захотел, выпил водки и утром пошел в поле. Полдня работал — замирал и переставал дышать при каждом неудобном движении. Пока, не заметили. Сказали: «Иди, Михайлович, домой». А он посовестился. Вчера, дескать, у бригадира отпрашивался, так стыдно еще и сегодня…
— И что же? — ехидно спросил Перетятько.
— К утру помер, — сухо сказал учитель.
— Чепуха собачья! Иносказание! — набросился на него Перетятько. — Совесть есть удел слабого, а нахальные, себялюбивые этим и пользуются. Вот хотя бы и с теми доярками на реке. Ведь там, рядом с утопающей, была и еще одна девушка, но поплыла к бережку — к берегу, к бережочку!
— Что ты этим хочешь сказать? — спросил Иван Васильевич. — Что не надо было приходить на помощь?
— А ты вот у него спроси! — показал на меня Перетятько. — Спроси, помнят ее, ту, что бросилась помогать, какой она была?
Я пожал плечами.
— Во-от! — торжественно сказал Перетятько. — Во-от! А ты рассуждаешь…
В комнате установилось молчание. Всем вдруг стало неловко и тяжело.
В это время на дворе потемнело, ветром вздуло штору на окне, с улицы потянуло свежестью — мельчайшими водяными брызгами от столкнувшихся в воздухе капель: на дворе начинался ливень.
— Смотрите, — сказал Иван Васильевич, подошедший к окну. — Что это там?
Дождик шел полосой, захватив только нашу сторону села, а дальше, сквозь его кисею виднелся косогор, над которым светило солнце. По косогору двигалась процессия.
— Электрика хоронят, — сказал учитель.
Сзади гроба шли музыканты, один из которых был на деревяшке. Музыки не было слышно. Только вспыхивали на солнце трубы да траурно, сотрясая воздух, бил барабан. Один из идущих за гробом чуть приотстал, завернул к палисаднику, где стояли люди, пожал там кому-то руку, постоял, поговорил, стал догонять ушедших — в последний путь покойного провожали случайные люди.
Наконец, процессия перевалила за гребень и скрылась за косогором.
И сразу солнце погасло и там. Грохнул гром. Я выскочил наружу и побежал вдоль улицы.
— Ты куда? — закричал мне вслед Иван Васильевич.
Я махнул ему в ответ рукой: именно в эту минуту мне захотелось побывать у Безродных…
Когда я возвращался в гостиницу, дождик уже не шел — сеялся. Может, поэтому, не глядя на него, прямо под окнами нашего номера на дощатом танцевальном пятачке собиралась молодежь.
Чуть поодаль от площадки стояли группкой рабочие заводов в необмятых спецовках, заблаговременно — до начала уборки — приехавшие ремонтировать комбайны в совхозах: сегодня у них был первый, еще не занятый день, и они просто так, по отсутствию забот, решили подышать свежим воздухом. С ними разговаривал сильно подвыпивший Перетятько.
— Отдохнешь теперь, — поприветствовав меня, кивнул он головой в сторону веселящихся. — Эта музыка теперь надолго!
Однако вид у него был довольный…
Ночью я спал плохо. И не потому, что по-настоящему хорошо спится только дома. Я вновь и вновь вспоминал прожитое за день — степь, дорогу, мокрые травы, шум сливаемого в бидоны молока и вместе с тем сумрачное лицо женщины, людей, идущих за гробом, траурный звук барабана, угадываемый лишь по сотрясению воздуха, хромого музыканта на деревяшке, вздутые ветром шторы, пронзительные крики доярок: «Шура, Шура, беги!» и сотни других звуков, запахов, картин.
И все это вместилось в один день, в один только день жизни! Что же значит тогда вся жизнь? И по контрасту с ней темные провалы небытия до нее и после нее?
…Уезжали мы утром. На столбе у конторы, усиленные громкоговорителями, заливались «Песняры»:
Против окна зеленый сад.
Вставайте, братцы, вставайте!
А в тим саде да винограде
Квятки растут-расцветают!..
— Где это ты вчера пропадал? — спросил меня Иван Васильевич. — Я уж думал, без тебя уедем.
По всей дороге на райцентр стояли лужи, отражающие зеленую стену выколашивающихся хлебов. Сильно парило. Иван Васильевич, сидя на переднем сиденье «Волги», ловил через опущенное стекло скользящие по кузову колосья ржи. У Перетятько было серьезное, задумчивое лицо. И только шофер невозмутимо крутил баранку, включал радио, посвистывая, насмешливо взглядывал на нас.
Вдруг автомашину тряхнуло.
— Есть! — засмеялся шофер, выключая мотор. — На черепаху наехали.
Черепаха была молодая, с крепким и скользким панцирем — их в эту пору отчего-то много ползает по степи. Ее положили спиной на мокрый песок недалеко от лужи, она подождала, выпустила черные лапы и стала неуклюже переворачиваться.