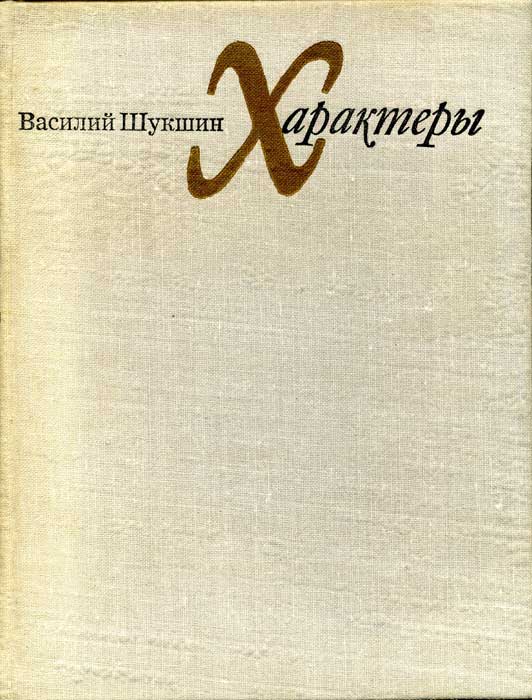ишо… Поживешь. Работа — не бей лежачего. И не совестно ведь! — искренне изумлялся дед. — Неужель не совестно?
— Ни на вот эстолько. — Макар показывал кончик мизинца.
— А почто, например, ты то одно людям говоришь, то другое — совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то?
Макар глубокомысленно думал, глядя на улицу, потом говорил. Похоже, всю правду, какую знал про себя.
— Не для этой я жизни родился, дед…
— Для какой же?
— Сам не знаю. Вот говоришь — путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу — охота помочь советом каким-нибудь… Потом раздумаешься: да пошли вы все!..
— Хм.
— Так вот ходишь неделю, тыкаешься в ихные дела… Потом придет воскресенье, и я вроде отдыхаю. Давайте, думаю, черти, — гните дальше. А я еще какую-нибудь пакость подскажу.
— Во стерьва-то!
— Ей-богу! А завтра опять пойду по домам, опять полезу с советами. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы — в большом масштабе советы-то давать, у меня бы вышло. Ну, подучиться, само собой… У меня какой-то зуд на советы. Охота учить, и всё, хоть умри.
— Дак и учил бы одному чему, а то, как…
— Да я и хочу! Но ведь я им одно, а они меня по матушке. А то и — по загривку. Ванька вон Соломин… так и пустил с крыльца.
— Эхэ!.. У того не заржавит.
— А я для его же пользы — назови, мол, сыночка-то Митей, в честь свояка, свояк-то в лепешку расшибется — будет посылки слать. Какая ему, дураку, разница — Митя у него будет расти или Ваня? А жить все же маленько полегче было бы — свояк-то на Севере, тыщи ворочает… А так-то я их не презираю, людей-то. Наоборот, мне их жалко бывает.
Старик допивал остатки вина, поднимался.
— И все-таки стерьва ты, — говорил беззлобно.
— Что, пошел?
— Пойду… Зять теперь очухался, погреб небось копает. Он с похмелья злой на работу. Помочь надо. Рыбки-то занесу килограмма два. Во вторник.
— Ладно, сгодится. Я до ухи любитель.
— Спасибо, што выручил.
— Не за что.
Дед уходил. А Макар оставался сидеть на скамеечке, глядел на село, курил.
Иногда из дома выходила больная жена — к теплу, к солнышку. Присаживалась рядышком.
— Вот ведь сколько домов!.. — раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар. — И в каждом дому — свое. А это — только одна деревня. А их, таких деревень-то, по России — оё-ёй сколько!..
— Много, — соглашалась жена.
— Много, — вздыхал Макар. — Много.
Вспоминаю из детства один случай.
Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо — синим-сине, и уж дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил.
— Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей. — Ему охота было домолотить скирду. Но… все уж собирались, и он скрепя сердце тоже стал собираться.
До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, синева наползла, но дождя, правда, не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль… Во мгле трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.
— Самая воровская ночь, — сказал дядя Ермолай. — Ну-ка, Гришка… — дядя Ермолай поискал глазами, я попался ему, — Гришка с Васькой, идите на точок — там ночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто да не нагреб зерна. Ночь-то… самая такая.
Мы с Гришкой пошли на ток.
Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю: вспыхивало и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым — резко, горьковато. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.
Когда вверху вспыхивало, все на земле — скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, — все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко, уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались.
Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотали вниз огромные камни.
— Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем, — предложил Гришка.
— Давай, конечно.
— А утром скажем, что ночевали на точке, кто узнает?!
Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше… И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.
Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы, конечно, проспали. Но так как ночью промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.
— Ну, караульщики, — спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пытливо. — Как ночевали?
— Хорошо.
— Все там в порядке? На точке-то?
— Все в порядке. А что?
— Ничего. Спрашиваю… Я посылал, я и спрашиваю. «А что?..» — А сам всё смотрит. Мне стало не по себе. — Зерно-то целое?
— Целое. — У Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая. — А что?
— Да вы были там?! На точке-то?
У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся… Хлоп-хлоп глазами.
— Как это «были»?..
— Ну да, были вы там?
— Были. А где же мы были?
Эх, тут дядя Ермолай взвился.
— Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под суслоном ночевали, а говорите — на точке! Сгребу вот счас обоих да носом — в точок-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?
— От… Ты чо?
— Где ночевали?!
— На точке, — Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.
— Васька, где ночевали?
— На точке.
— Да растудыт вашу туда-суда и в ребра!.. — Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. — Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда — думаю, дошли ли они хоть? Не было вас там!
Это нас не смутило — что он, оказывается, был на току.
— Ну и что?
— Что?
— Ну и… мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже… Мы блудили.
— Где попозже?! — взвизгнул дядя Ермолай. — Где попозже-то?! Я там