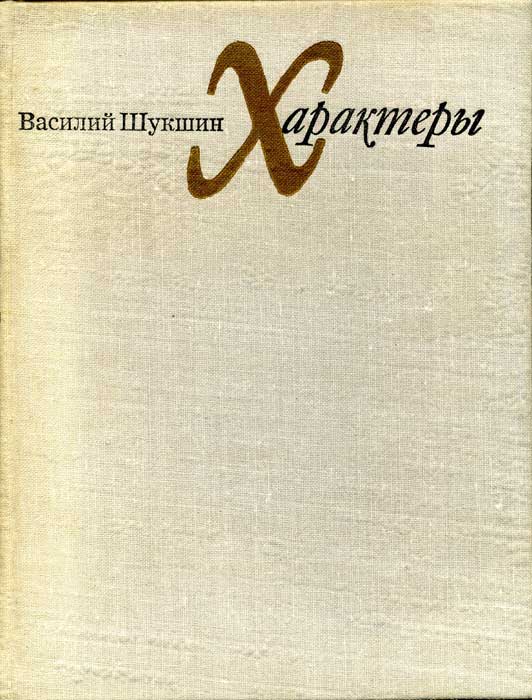весь дождь переждал! Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там!
— Были…
Дядя Ермолай ошалел… Может быть, мы — в глазах его — тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони — отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.
— Были?
— Были.
Он схватил узду… Мы — в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.
— Обормоты, — говорил он на ходу. — Не были же, не были — и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам… жоны злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят — и хоть бы что! О!.. — дядя Ермолай повернулся к нам. — Да ты скажи честно: испужались, можеть, не нашли — нет, в глаза смотрют и врут. Обормоты… По пять трудодней снимаю, раз вы такие.
Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.
— Гришка, Васьк… сознайтесь: не были на точке? По пять трудодней не сниму. Не были же?
— Были.
Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас… Потом позвал с собой.
— Идите суда… Идите, идите. Вот тут вот я от дождя прятался. — Показал. И посмотрел на нас с мольбой. — А вы где же прятались?
— А мы — с той стороны.
— С какой?
— Ну, с той.
— Да где же с той-то?! Где с той-то? — Он опять стал терять терпение. — Я же шумел вас, звал!.. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?
— Тут.
Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться. Опять сморщился…
— Ну, ладно, ладно… Вы, можеть, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите: где ночевали? Не скину по пять трудодней… Где ночевали?
— На току.
— Да где на току-то?! — сорвался дядя Ермолай. — Где на току-то?! Где, когда я… У-у, обормоты! — Он заискал глазами — чем бы огреть нас.
Мы убежали.
Дядя Ермолай ушел за скирду… Опять, наверно, всплакнул.
Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай …вич».
Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа… Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?
Старик Глухов в шестьдесят восемь лет овдовел. Схоронил старуху, справил поминки… Плакал. Говорил:
— Как же я теперь буду-то? Один-то?
Говорил — как всегда говорят овдовевшие старики. Ему, правда, было горько, очень горько, но все-таки он не думал о том, «как он теперь будет». Горько было, больно, и все. Вперед не глядел.
Но прошло время, год прошел, и старику и впрямь стало невмоготу. Не то что он — затосковал… А, пожалуй, затосковал. Дико стало одному в большом доме. У него был сын, младший (старших побило на войне), но он жил в городе, сын, наезжал изредка — картошки взять, капусты соленой, огурцов, медку для ребятишек (старик держал шесть ульев), сальца домашнего… Но наезды эти не радовали старика, только раздражали. Не жалко было ни сальца, ни меда, ни огурцов… Нет. Жалко, и грустно, и обидно, что родной сын — вроде уж и не сын, а так — пришей-пристебай. Он давал сыну сальца, капусты… Выбирал получше. Молчал, скрепив сердце, не жаловался. Ну, пожалуйся он, скажи: плохо, мол, мне, Ванька, душа чего-то… А чего он, Ванька? Чем поможет? Ну, повздыхает вместе, разопьют бутылочку, и он уедет с чемоданом в свой город-городок, к семье. Такое дело.
И надумал старик жениться. Да. И невесту присмотрел.
Было это 9 мая, в День Победы. Как всегда, в этот день собралось все село на кладбище — помянуть погибших на войне. Сельсоветский стоял на табуретке со списком, зачитывал:
— Гребцов Николай Митрофанович.
Гуляев Илья Васильевич.
Глухов Василий Емельянович.
Глухов Степан Емельянович.
Глухов Павел Емельянович…
Эти три — сыны старика Глухова. Всегда у старика, когда зачитывали его сынов, горе жесткими сильными пальцами сдавливало горло, дышать было трудно… Он смотрел в землю, не плакал, но ничего не видел. И долго стоял так. А сельсоветский все читал и читал:
— Опарин Семен Сергеевич.
Попов Иван Сергеевич.
Попов Михаил Сергеевич.
Попов Василий Сергеевич.
Тихо плакали на кладбище. Именно — тихо, в уголки полушалков, в ладони, вздыхали осторожно, точно боялись люди, что нарушат и оскорбят тишину, какая нужна в эту минуту. У старика немного отпускало, и он смотрел вокруг. И каждый раз одинаково думал: «Сколько людей загублено!»
И тут-то он приметил в толпе старуху Отавину. Она была нездешняя, хоть жила здесь давно, Глухов ее знал. У старухи Отавиной никого не было в этом скорбном списке, но она со всеми вместе тихо плакала и крестилась. Глухов уважал набожных людей. За то уважал, что их — преследуют, подсмеиваются над ними… За их терпение и неколебимость. За честность. Он присмотрелся к Отавиной… Горбоносая, дюжая еще старушка, может легко с огородом управиться, баню истопить, квашню замесить и хлеб выпечь. Старик не мог есть «казенный» хлеб — из магазина. И вдруг подумал старик: «Тоже ведь одна мается… А?»
Пришел домой, выпил за сынов… И стал вплотную думать: «Продала бы она свою избенку, перешла бы ко мне жить. А деньги за избу пусть на книжку себе положит. И пусть живет, все не так пусто будет в доме. Хоть в баню по-человечески сходить, полежать после баньки беззаботно… На стол — есть кому поставить, есть кому позвать: „Садись, Емельян“. Жилым духом запахнет в доме! Совсем же другое дело, когда в кути, у печки, кто-нибудь громыхает ухватами и пахнет опарой. Или