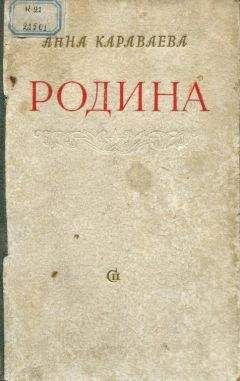— Я не мог этого выполнять, не чувствуя в своих руках достаточно власти, — неопределенность в будущем лимитирует меня!
Назарьев и Пластунов, каждый по-своему, обрезали его, и хотя он тут же согласился с ними, неблагоприятное впечатление этих слов, конечно, не было забыто. Упрекая себя после этих вспышек, Евгений Александрович тут же находил и оправдание.
— Все-таки надо же понять человека, — жаловался он Любови Андреевне. — Я продолжаю жить и работать в исключительно напряженной атмосфере… Зачем, например, так старательно обмусоливали в газете мой доклад и мое выступление, даже и после стахановского совещания, и без конца распространялись о том, как я, «цепляясь за вчерашний день», чуть было не угробил ценное новаторское начинание молодежи! Да-а, как же, угробишь их, этих напористых ребят, да еще на глазах у целого отряда их заступников! Ну хорошо, конечно, я признался в своей ошибке, — так нет, еще мало! Когда чувилевское приспособление было размножено и успешно вошло в производство, — ну и прекрасно, я очень рад! — сначала наша заводская многотиражка, а потом та же «Кленовская правда» опять упомянули обо мне! Я понимаю: для острастки другим, но… помилосердствуйте, товарищи: я же не мальчишка! Поймите, что меня от этого уже передергивает, защитите меня! И уже пора, черт возьми, предать забвению эту прискорбную историю!
То, что «прискорбную историю» не предавали забвению, а, напротив, нет-нет да и вспоминали о ней, мешало, по мнению Челищева, укреплению его авторитета. Он стал болезненно мнителен и подозревал всех, особенно молодежь, в неуважении и недоверии к опыту и знаниям его как руководителя. «А! Вы хотите забыть, что я существую на свете?» — и, нервничая, он вызывал начальников цехов и мастеров, часто даже без повода, и люди в недоумении уходили от него.
Однажды он случайно услышал, как сталевар Косяков с добродушной насмешкой ответил кому-то:
— Да ну его к аллаху, старого неврастеника! Авось, обойдусь как-нибудь без его нудных разговоров!
Евгений Александрович, вспыхнув, как мальчишка, постарался скорее юркнуть в какую-то дверь, чтобы не попасться на глаза Косякову: «старый неврастеник» и «нудные разговоры» — все это было сказано о нем, старом инженере, всем сердцем преданном своему заводу!
Возвращение Пластунова из Москвы в начале сентября совпало с пуском на заводе мартена, стоявшего на ремонте. Вечером того же дня к Пластунову пришел Косяков. Вид у него был парадный, на офицерском кителе сияли боевые ордена и медали. Вытянувшись и козырнув по-военному, Косяков снял фуражку с черным бархатным околышем и произнес:
— Пришел к вам, товарищ парторг, по важнейшему делу: принес заявление в партию.
Пластунов прочел заявление и удивленно взглянул на Косякова:
— Кандидатом партии вы вступили на фронте, но… ваш кандидатский стаж закончился еще четыре месяца назад. Почему вы медлили с подачей этого заявления?
— Так точно, медлил, — согласился Косяков, и его узкие подвижные губы многозначительно улыбнулись. — Разрешите рассказать, товарищ парторг?
— Пожалуйста, товарищ Косяков.
— Когда я еще на фронте задумал вступить в партию, — начал Косяков, — мне все хотелось прийти в ее ряды с каким-то большим делом…
— За вами, я вижу, числится немало военных удач, — сказал Пластунов, показывая на ордена и медали.
— Но мне все казалось мало, — упрямо тряхнув головой, сказал Косяков. — Я больше могу сделать, так я рассуждаю. Наконец мы провели один танковый рейд в тыл врага, — об этом и в сводках Совинформбюро упоминалось… Я был награжден орденом Ленина… и тут решил: «Ну, теперь я вступаю в партию!» Меня приняли кандидатом в члены партии как раз в тот день, когда из рук командующего армией, приехавшего в нашу часть, я подучил орден Ленина. Вот как прекрасно тогда получилось, товарищ парторг!
Косяков, передохнув, помолчал. Лицо его вдруг приняло обиженное выражение.
— И вот я демобилизуюсь, приезжаю на свой завод, становлюсь к мартену. Его только что восстановили, но… Что за черт! Простите, товарищ парторг, дурит мартен да и только! В чем причина, не могу докопаться. Вы же помните, как целых два месяца этот восстановленный мартен то и дело подводил заводский план: нет-нет да и станет, подлый, на ремонт. Понимаю, что надо его на капитальный ремонт остановить, да ведь он пока что один. Значит, надо скорее пустить в строй мартен номер четыре, который и до войны считался у нас самой большой печью. Ну… могу сказать — я за него взялся! С первого до последнего кирпича все шло под моим наблюдением и моими также руками делалось. Прочел я также кое-какие отечественные труды по мартеновскому производству — и чувствую: вооружаюсь, вооружаюсь, должна прийти победа!
Его сухощавое лицо все светлело, в темностальных глазах все чаще вспыхивали золотистые огоньки.
— И вот… готов наш мартен номер четыре! Делаем пробу — хорош!
— Но вам все мало, ненасытная душа, — пошутил Пластунов, — и вы еще больше месяца после этого промедлили с заявлением!
— А первый-то мартен, который стал на капитальный ремонт! Столько он всем и мне крови испортил… и вдруг оставить этот вопрос открытым! Нет, невозможно! Теперь уж я мог спокойнее докопаться, что именно «заедало» работу мартена, и, конечно, докопался. Теперь и этот мартен вступил в строй и работает что надо. Вот тут-то у меня на душе стало хорошо, просторно: и сейчас не с голыми руками в партию иду!
— Прекрасно! — одобрил Пластунов. — Мы вас скоро вызовем на партбюро, товарищ Косяков.
В половине сентября Косякова приняли в партию. Закончив свою речь, он собрался было спуститься с трибуны, но вдруг приостановился и сказал громким, призывным голосом:
— Товарищи! Всех, у кого есть время, приглашаю сегодня к началу моей ночной смены в наш мартеновский цех. Полюбуйтесь, как пойдут в плавку фашистские танки, превращенные нашей артиллерией в самый обыкновенный лом! Очень приглашаю вас, товарищи!
Косяков в брезентовой рабочей широкополой шляпе, с приспущенными на лоб синими очками, показавшись на площадке, приложил свисток к губам. Едва свист его заливчато прокатился над цехом, как завалочная машина, загремев тоннами трофейного лома, тяжко и мощно вверглась в только что опустевшее, дышащее огненным жаром, глубокое чрево печи.
— Это мы завалили, товарищи, тот дурной мартен, который всем портил кровь, — объяснил Косяков. — Теперь он укрощен. А здесь, полюбуйтесь, работает большой мартен. Скоро будем выпускать сталь… печь идет на доводку!
Все вышли на железные мостики в тыл печи. Огромный ковш остановился внизу, под желобом, зияя черной пустотой днища, глубина которого казалась бездонной. Пустые изложницы стояли чередой, как гигантские стопки в ожидании огненного вина. Свет больших ламп рассеивался понизу, а вверху, под высоким потолком, казалось, плыла густая, бархатная тьма. Слышно было, как глухо гудело пламя за стеной, будто стремясь разорвать ее и ринуться на люден, которые тесными кучками стояли на мостиках.
Кругом простиралась знакомая перед пуском металла тишина, в которой для Пластунова всегда таилось нечто вдохновенное и непобедимое. Ему казалось, что и все эти застывшие, словно в ожидании чуда, люди чувствовали то же самое, — и, наверное, мало кто помнил, что год назад на этом месте были развалины, пыль, ветер. Напротив, всем казалось, что так было всегда, что ничто и никогда не нарушало этой напряженной, чуткой тишины перед выходом металла.
Наконец Косяков негромко скомандовал:
— Давай!
Застучал лом, все глубже вонзаясь в летку, — и вдруг со звоном и грохотом вырвался наружу металл. Освещая весь цех полыханием багрово-розовой зари, сталь лилась в ковш и гремела, будто зычно крича на весь мир: «Слышите меня?»
Соня прижалась плечом к Пластунову, ее расширившиеся глаза, горящие золотыми отблесками огня, были полны восторга.
Фигура Косякова, стоящего, как повелитель, на краю мостика, над кипящей струей стали, ярко чернела на фоне рыже-розовых облаков этой сказочной зари и казалась отлитой из металла.
Последние струйки стали со звоном упали в ковш, и заря рассеялась. Только жарко горело разверстое рубиново-золотое чрево ковша, который двинулся к изложницам. Над ним плыло рыжее облако тысячеградусного живого пламени, которое, меняя цвет, все более бледнело и наконец сгасло у последней изложницы.
Соня и Пластунов вышли на шоссе. Был теплый, безветреный вечер. Крупные звезды горели на черно-зеленом небе. Но Соня, глянув вверх, сказала:
— После плавки звезды на небе кажутся бледными, слабыми. Правда, Митя?
Пластунов и Соня, встречаясь после работы, всегда гуляли час-полтора. Свернув с заводского шоссе на восток, они выходили на Московский тракт. Они шли по обочине, мимо огородов и картофельных полей, перерезанных темными трещинами бывших окопов, края которых уже густо зеленели. Особенно нравилось Соне и Пластунову бродить в этих местах по вечерам, когда вокруг было тихо-тихо, только изредка, осторожно сверкнув фарами, проносились по тракту машины и снова наступала тишина.