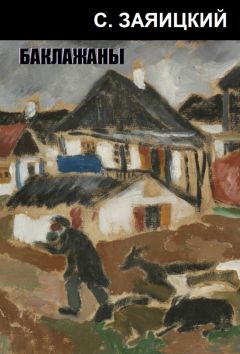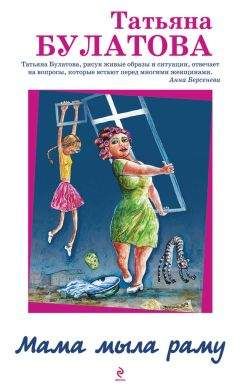— У одного ружье было, — ввернул со смаком Зверчук.
— Уж, конечно, и ружья и револьверы. Ранили его в живот и деньги забрали.
— А милиция?
— Какая у нас милиция!
— Но их же, наверное, будут… стараться арестовать?
— Неизвестно, какая у них банда!
И все загадочно покосились на черневшую вдали степь.
Зверчук махнул рукой.
— Та не банда! Та просто грабилы!
— Ничего не известно.
Все с каким-то даже упреком поглядели на Зверчука, словно он разрушал какие-то приятные иллюзии.
— Вы думаете, просто воры? — с надеждою спросил Степан Андреевич, не в силах проникнуться прелестью этой романтики,
— А як же!
Степан Андреевич пошел на базар. Он хотел рассеяться. На улицах было, по обыкновению, пусто, но на базарной площади толпился народ среди желтых горшков, зеленых кавунов и красных баклажанов.
И все передавали друг другу свои впечатления и что испытали они, услыхав ночью стрельбу. И на всех лицах было то же самое загадочное выражение, словно никто не верил, да и не хотел верить, что это просто так себе.
Еще неделю назад тому, бродя по этому базару, Степан Андреевич воображал себя на Сорочинской ярмарке и думал: «Вот прошло сто лет. Какая разница? Теперь даже еще как-то спокойнее: тогда были свиные рыла и красная свитка». Но теперь он понял.
Не свиные рыла, но что-то неизмеримо более страшное почуял он вдруг, и ясно представилась ему эта площадь с брошенными можарами и лотками, по которой скачут всадники в мохнатых шапках, и для этих всадников смерть человека есть лишь привычный взмах отточенной сабли. И страстно потянуло в милую Москву, где уже давно отжили все эти страхи, опять захотелось трамваев, автобусов, знакомой сутолоки.
Группы каких-то хуторян шептались между собою, но, когда подходил Степан Андреевич, умолкали. Москвич — надо опасаться. Степан Андреевич твердо решил: уезжать как можно скорее. Но он боялся проявить трусость и за завтраком сказал дипломатично:
— Такие у вас интересные события, а мне приходится ехать.
— Что ты, Степа, — воскликнула Екатерина Сергеевна, — да разве теперь можно ехать. Они ж будут теперь по дорогам грабить.
И Вера сказала:
— Да, ехать сейчас не советую.
Степан Андреевич почувствовал глубокую жуть. Оставаться в Баклажанах, с этими средневековыми людьми, кающимися из-за одного поцелуя и ненавидящими горемычных, имевших несчастье любить их — любить в самом деле больше жизни?
— Неужели нельзя ехать, — пробормотал он, — да у меня и деньги кончаются.
— Ну, с голоду не умрете, — сказала Вера, — а повременить надо. Неизвестно еще, во что это выльется.
После завтрака случилось чудо. Вера надела шляпу, пыльник и куда-то пошла. Этого ни разу не было еще при Степане Андреевиче. Ходила она только в церковь.
— Куда это Вера пошла?
Екатерина Сергеевна долго словно размышляла, сказать или нет. Но, должно быть, почувствовала, что, если скажет, ей будет легче.
— Вера пошла к Розенманам, — прошептала она, — узнать, какой из себя был этот бандит… Да что она узнает, ведь он же был в маске!..
Степан Андреевич понял.
За обедом он искоса поглядел на Веру, но она была спокойна, по обыкновению.
А слухи все росли и росли.
Каждый из соседей, приходивший на кухню за утюгом ли, за мясорубкой, непременно рассказывал что-нибудь новое. И все как-то стеснялись Степана Андреевича и при нем говорили:
— А пустяки! Жулики простые!
Но глаза их говорили совсем другое.
И ему было страшно.
К ночи все как-то притаились и чего-то ждали.
Хора не было слышно над рекою.
Только псы заливались тревожно и грозно, и, казалось, они чуяли.
Перед сном все опять собрались на крыльце и опять долго и томительно прислушивались.
— Что-то сейчас в степи! — сказала Екатерина Сергеевна, и видно было, что так привыкла говорить она по ночам в те страшные дни.
Марья хлопотала. Запирала ворота, вытащила из подвала какую-то болванку и завалила дверь. У нее был вид ремесленника, долго бывшего безработным или занимавшегося не своим делом. И вдруг посулили ему «его» работу, и он радуется и сознает, что хорошо ее исполнит, и только боится, что не всерьез ему посулили…
Ночь началась спокойно. Только все тот же кошмар давил.
Уехать! Лишь бы уехать!
Внезапно был разбужен Степан Андреевич стуком в дверь.
Рассвета еще не видно было в щелях ставней.
— Кто там? — робко спросил он.
— Это я. — произнес голос Екатерины Сергеевны. — Степа, послушай. Как будто у нас в саду мужские голоса.
Степан Андреевич с тоскою накинул пальто и зажег свечку.
Тетушка вошла, и по-прежнему на лице ее не видно было страха.
Скорее опять какое-то странное торжество.
Прислушались.
— Я ничего не слышу, — сказал Степан Андреевич.
— Ну, должно быть, мне показалось… А все-таки выйдем. Задуй свечу. Нехорошо быть в свету.
Она храбро растворила дверь.
Было тихо. Ущербный месяц всходил над тополями.
Должно быть, его встречая, провыла собака.
И вдруг опять резкий вопль прорезал уши. Залаяли псы.
— Лукерья визжит, — сказала Екатерина Сергеевна, — как часто стали с ней припадки делаться.
— Ее бы хоть в больницу отвезли, — проговорил Степан Андреевич с раздражением, — ведь это всем должно на нервы действовать.
— Никому не охота с этой идиоткой возиться.
Степан Андреевич вздрогнул, ибо не заметил, как подошла Вера.
— Ну, идемте спать, — добавила она, — напрасно вы, мама, Степу подняли. Так сразу никогда не начинается.
— А помнишь Лещинский? Постреляли вот так же, а на другой день и пошло. Тогда, помню, шла я утром к Змогинским. Гляжу, что-то черное на дороге, не разберешь что. Только я подошла… Господи!.. Вороны так тучей и поднялись… и каркают… а на дороге труп лежит, и кто-то его обобрал… Ну, покойной ночи…
Степан Андреевич опять не спал. Мысли! Откуда их вообще принесло — мысли!
Утром он вышел с головною болью и вновь увидал на дворе маленькое общество. И все качали головами.
— Случилось что-нибудь? — спросил он робко.
— Вообрази, Степа, — отвечала тетушка, — Лукерья ночью в захарченской клуне удавилась. Это она, стало быть, перед этим так визжала. Вера пошла смотреть.
В это время из сада тяжело вышла Марья, должно быть, тоже ходившая смотреть. Она шла, охая, и лицо ее изображало отвращение. Рукой отмерила она что-то у себя под подбородком. И все поняли: так был высунут язык у повесившейся.
— А больше никаких событий не было, — сказала тетушка, — должно быть, и вправду были жулики.
— Вот видите, стало быть, мне можно ехать.
— Конечно, можно! — воскликнул Зверчук и прибавил неожиданно: — Поезда еще ходят!
В это время вернулась Вера.
— Ну, Степа, — сказала она спокойно, — больше Лукерья не будет вам нервов тревожить. Вообразите, мама, повесилась на той самой балке, где и сам Захарченко. Ну, ее не жалко. Идемте кофе пить.
Несмотря на ранний час отъезда (поезд, как выяснилось, отходил в пятницу в семь утра), провожать Степана Андреевича встали и тетушка и Вера. Быковский укладывал в фаэтон вещи. Тут же стояло и семейство Дьячко, так как Ромашко должен был сопровождать Степана Андреевича на станцию.
Поэтому тетушка, целуя Степана Андреевича, сквозь слезы шепнула ему: «Наблюдай за Ромашкой».
Вера простилась спокойно, но дружелюбно.
Фаэтон покатил.
В степи было свежо и ясно. Далеко где-то стучала паровая молотилка. Мягко катился фаэтон по накатанной черной дороге. Проезжая мимо какого-то хутора, Быковский задержал лошадей и указал кнутовищем на красивую, ровную, как шар, дикую грушу.
— На этой груше, — сказал он, — батько Махно четырех комиссаров повесил.
Ничего кругом не было страшного. Но вот на дороге показалась неподвижная группа: два милиционера возле распластанного в пыли трупа.
— Чі? — спросил Быковский, задерживая лошадей.
Но милиционеры сердито крикнули:
— Тікай!
И только вслед послали с гордостью:
— Главного бандита убили. Воробей.
— Какой Воробей? — со страхом спросил Степан Андреевич у Быковского. Но тот почему-то ничего не ответил.
Станция была маленькая, степная. На белом доме черными буквами написано было: «Баклажаны».
Оживленно толковали пассажиры.
Степан Андреевич спросил дежурного по станции:
— Кого это убили?
— А вот Воробья — бандита. Он тут в Баклажанах мельника ограбил и ранил даже. Ну, у того денег много, он всю кременчугскую милицию поднял.
— А этот Воробей не Купалов?
Дежурный усмехнулся.
— Купалов в Екатеринославе служит в спілке приемщиком.