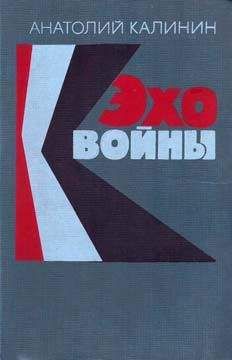На обратном пути из министерства за углом гостиницы он зашел в «Аэрофлот» и купил билет на самолет на завтра. Не мог же он и обратно почти сутки тащиться по рельсам.
На этот раз он застал ее у себя в номере. Ожидая его, она загляделась в окно на вечернюю улицу Горького, протаяв себе на морозном стекле кружок. И по ее быстрому повороту головы, когда он вошел, по ярко блестящим глазам, румянцу на щеках и по первым же словам он сразу же понял, что она только что приехала оттуда. Еще и изморозь оставалась на ворсе ее шапки, брошенной на диван.
— Ну что же, папа, тебе ответил твой бог? Расскажи мне. Только, пожалуйста, все, все. Ты не думай, что мне неинтересно.
И после того как он рассказал ей о своей встрече с богом, она бурно вознегодовала:
— Какой же он бог, если ничем не может помочь. А если и бог, то уже на пенсии, бывший. Нет, папа, этого нельзя так оставлять. — И, совсем уже удивляя его, она заявила: — Тебе обязательно нужно сходить в ЦК.
Он и не предполагал, что она может быть так неравнодушна к его делам.
— Надо было мне, Наташа, с самого первого дня в ЦК пойти, а теперь уже поздновато. Придется оттуда написать.
— Почему?
— Кончается мой отпуск. Надо мне уже ехать домой.
— Когда?
— Завтра.
У нее померкли глаза.
— Уже?
Он виновато подтвердил:
— Да. Самолет уходит в четыре часа дня… А мы, Наташа, так и не поговорили с тобой. Правда, ты занята, у тебя свои дела, но о чем же я смогу матери рассказать? Я и сам ничего не знаю.
— О том, что я… здорова, учусь, ну и вообще у меня здесь все… — она немного запнулась, — хорошо. — И взгляд ее ускользнул от его взгляда куда-то в сторону, в окно, на котором синел протаянный ею кружок.
— Вот этого я бы, Наташа, не сказал. Мне почему-то кажется, что это не так. И вообще мне все время кажется, что ты и сама хочешь что-то мне сказать. Но, может быть, я и ошибся.
Она ответила совсем тихо, но он услышал:
— Нет.
— Что?
— Не ошибся. — Но тут же она испуганно добавила: — Но, пожалуйста, папа, еще немножечко подожди. Я завтра заеду к тебе из института и… — Не договорив, она встала, и взгляд ее упал на ее шапку, унизанную капельками оттаявшей изморози. — А сейчас пока.
И, как не раз уже бывало, в этот момент рядом за стеной взрокотал, причаливая к десятому этажу гостиницы, скоростной лифт.
Назавтра, когда она приехала к нему с портфельчиком из института перед его отъездом в аэропорт, она, казалось, совсем забыла о своих словах, а у него не поворачивался язык напомнить ей. Зачем было омрачать минуты расставания, которые и без того достаточно грустны. Опять она остается здесь неприкаянная, и весь его приезд сюда так и не прояснил ничего.
И только когда он уже снял с вешалки свою полубекешу и стал натягивать рукав, она вдруг быстро наклонилась к своему портфельчику, лежавшему у нее на коленях, щелкнула замком и, протягивая ему одной рукой коричневую толстую тетрадь, другой рукой, как гибким стебельком, обхватила его шею:
— Вот, папа, возьми с собой. Здесь ты все узнаешь. Только никому больше не показывай, даже маме. И никогда, милый папочка, не давай своей дочери смиряться.
И, пряча от него глаза, она зарылась лицом в его воротник, из которого и в Москве не выветрился солонцевато-горький степной запах.
Приехав из Москвы, он долго не доставал ее тетрадь из чемодана. То ли в порыве какого-то отчаяния, то ли надеясь, что он как-то сумеет ей помочь, она отдала ему свой дневник, и имел ли он право воспользоваться этим внезапным приливом ее доверчивости? А может быть, она там уже пожалела о ней, раздумала и вот-вот придет от нее решительный запрет вторгаться в ее жизнь: авиаписьмо в конверте с красно-синей каемкой или телеграмма, равнозначная приказу, не выполнить который невозможно. Это означало бы для него потерю навсегда и ее доверия и, быть может, еще чего-то неизмеримо более важного.
И, приехав домой, он втайне радовался, что неотложные дела сразу же обступили его. Уедешь на полмесяца, а потом расхлебывай всякие упущения полгода.
Но уже три дня прошло, неделя, а ни телеграммы, ни письма так и не было. Так, значит, не раздумала она и, может быть, действительно надеется на какую-то его помощь, а он тянет, чего-то боится, ждет. В то самое время, когда ей, конечно, необходима его помощь. Он не мог сказать — какая, но ни секунды не сомневался, что это так, запомнив, какие у нее были глаза, когда она вдруг обвила его шею и прильнула к нему: «И никогда, милый папочка, не давай своей дочери смиряться».
Приливом острейшей тревоги сразу же смыло все его колебания, он достал из чемодана тетрадь. И едва открыл ее, как тут же погрузился в совсем иной, незнакомый ему прежде и неизведанный мир.
Но прежде чем он открыл тетрадь, из-под ее коричневой пупырчатой обложки выскользнули два листка бумаги. Нет, это были не странички из ее дневника. «Папа», — прочитал он. Это было письмо, и не кому-нибудь другому, случайно оставшееся между страниц, а ему, вложенное, видимо, в тетрадь в последнюю минуту. Два листка из блокнота в клеточку, исписанные ее быстрым почерком:
«Папа, родной! То, что я не могу и просто не хочу говорить словами, я еще как-то в состоянии выразить на бумаге. Прости, если чем-то обидела тебя и маму на этих страницах. Не спеши делать выводы. Настроение. Слишком подвластна я ему.
Я еще не знаю, как решилась расстаться с самым дорогим для меня. Год или два назад я, пожалуй, не смогла бы сделать это, а теперь… Теперь я просто не могу больше так. Все, что угодно, любые несчастья, беды, но бороться, не жить так, как живу, не терять то.
И все-таки я верю, что придет моя весна. Только единственная. Та, которую жду.
Прошу, не показывай дневник ни маме, ни одной душе. Иначе мне трудно будет жить. И еще… никогда не говори со мной прямо на эту тему. Видишь, я даже в письме к тебе не могу выразить это прямо. Многое узнаешь ты о своей дочери. Прошу тебя, не осуждай, пойми правильно.
А писать, делиться своими чувствами с бумагой я уже привыкла. Начну новый дневник.
И постараюсь чаще писать вам письма. А еще буду мечтать. Как всегда».
Да, его обступил совсем незнакомый мир. Вот когда ему пришлось окончательно убедиться, что он не знает своей дочери. И это впервые он стал прятаться от Марининых глаз, подстерегая те часы, когда оставался в своей комнате один, и, как некогда Наташа, при звуке шагов пряча тетрадку в ящик стола и начиная преувеличенно громко шуршать газетами и листками. Нехорошо ему было, но и пренебречь Наташииым запретом он не мог. То ли стыдилась она матери, то ли решила, что может в чем-то довериться только ему, его мужскому уму и сердцу.
«14 апреля
Не знаю, радоваться мне или скорбеть? Без любви жить легче, но так пусто, ненужно, неинтересно существование без любви. Порой я хочу, чтобы вернулись эти бессонные, наполненные тревожной темой листовской сонаты ночи. Помню, как я металась, как мне чего-то не хватало, но жизнь была наполнена этим. Хочу, чтобы вернулось прошлое. Ведь, кроме этого, у меня ничего нет. Нужна громадная реальная любовь, чтобы вытеснить то, ибо оно связано с музыкой. Тогда все было просто: я хотела принадлежать только ему. А теперь? Тоже, надо признаться. Не раздумывая, пойду за ним. Как хочется, чтобы он знал тончайшие оттенки моих чувств, чтобы он дышал воздухом молодой травы, дождя, переживал то, что и я. Но не хочу семейного счастья ни с ним, ни с кем бы то ни было. Хочу быть свободной, всю жизнь искать его. Ибо любовь прекрасна тогда, когда не чувствуется счастливый исход.
Ходила за цветами. Ждала с нетерпением вечера звукозаписи… Обманулась. Ничего нового, кроме Аппассионаты. Буду писать ежедневно. Нет, я обожаю его. Каждый звук Пятого концерта Бетховена наполнен таким очарованием, потому что напоминает о нем. Лето, верни мне прежнее. Приятна ли тебе моя любовь?
15 апреля, 11 час.
Проснулась еще до рассвета. Если бы записать все мои мысли! Но я, наверно, никогда не решусь. А может… С каждым днем становлюсь все смелее. Металась до утра. Легко было вообразить, что лето. Ах, как я люблю серые сумерки рассвета, щебетание птиц, пение петухов. Даже душно стало по-летнему. Что будет этим летом? Влюбилась в Пятый Бетховена. Каждый звук похож на него. Дождик, но уже в воздухе весна. Что будет со мной? Не хочу семьи, не хочу уюта. Мне нужно что-то мятежное, беспокойное. Как в Третьем скерцо Шопена.
16 час. 30 мин.
Небо все разных цветов. Над лесом висит синяя глухая туча. Кругом влага: в воздухе, в небе. Дон спокойный и теплый. Похоже на грозу. А на веранде запах давно минувших дней: сена, бурки и еще чего-то дорогого. В голове все время — 5-й… Все-таки в этой торжественной и бодрой музыке есть что-то трагическое. Ненавижу свою зимнюю комнату. Все мне напоминает о моем нытье и неумении сберечь то, что берегла два года. Будет тепло — переселюсь на веранду. Скорей бы отбыли в Ростов наши. Хочу музыки на весь дом.