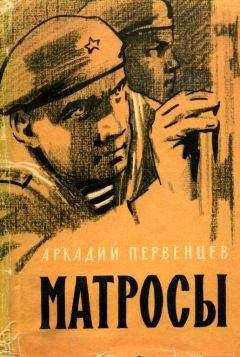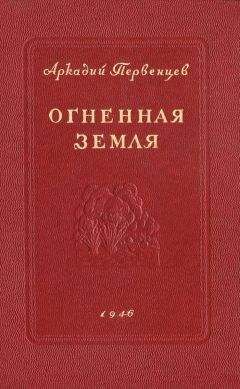Ознакомительная версия.
Незаметно, без стука, как бы вплывая в знакомую бухту без всяких сигналов, кабинет заполняли люди. Пришел агроном Кривошапка, низенького роста пожилой человек с умным, энергичным лицом, на котором жил каждый мускул. У него прострелена нога еще в гражданской, прихрамывает и ловко скрывает хромоту. Хороший человек Кривошапка, недавно в артели, добровольно покинул просторный кабинет в крайзу, окнами выходивший на аллею гледичии.
Войдя за ним, степенно раскланялся Павел Татарченко, отец Машеньки. У него бороденка, какой уже давно не носят на Кубани, разве только духовные лица. Павел Степанович Татарченко старикан въедливый, невыносимый спорщик и оппозиционер в хорошем смысле этого слова. Его называют купоросным критиканом. Сел, пристукнул палкой и расчесал волосы и бороденку алюминиевым гребешочком. Через минуту показалось, что заснул член правления, так густо засопели его ноздри. Но нет, остро укалывали его зрачки, резко вписанные в желтоватые от хронической малярии белки.
Еле протащив свое многопудовое тело, заявился бригадир Овчина. Одежду ему шили по мерке, готового на него не достать — ни пиджака, ни штанов, ни тем более сапог. На голенища, пожалуй, уйдет по целому козлу. Овчина толстел, как боров, и краснел, как бурак в котелке на хорошем огне. Работать умел, но никогда не загружал свою душу треволнениями, придерживаясь всегда среднего курса. Голосовал последним, вслед за большинством, высказывался тоже не сразу. Большая семья и долгий жизненный опыт воспитали в нем эти качества, и неизвестно, кого винить за это.
Молодые ребята Конограй и Кривоцуп — сын комбайнера, заявились вместе, красивые, оживленные, груди как колокола, рубашки расстегнуты, в хромовых сапогах, запыленных желтым цветеньем донника. От ребят пахло соломой, полынью, даже запахами черной, паровой земли, вспаханной стальными лемехами тракторных прицепов.
С удовольствием, будто на своих детей, поглядел на них Камышев, и глаза его засияли радостью.
«Не боится старый дуб молодой поросли, — подумал Петр, — верит в свои силы, крепкий. Вот, значит, с кем придется мне держать бессменную вахту. Хороши, каждый по-своему. Неплох и Хорьков, стальной чертяка, им хоть орудие главного калибра заряжать. И не имеет значения, каким способом он добыл себе подругу жизни: познакомился с ней в фойе Дома культуры, чин по чину, или похитил ее, как абрек».
Петр Архипенко поклонился Хорькову, пожал руку седоусому Никодиму Белявскому, председателю соседнего колхоза, — неделю назад ему предложили слиться с Камышевым. Прекратится дележка плотвы и раков, как подшучивал Помазун, запашут крепкие межники, сдадут в архив вторые гроссбухи и отчетности, закроют номер контокоррента, и добавит Михаил Тимофеевич еще два — три миллиона к общему фонду артели.
Правление обсуждало разные вопросы, объявленные в повестке дня. Дело Помазуна стояло четырнадцатым, и судьба его, безусловно, была предрешена: заступников за него ждать не приходилось, слишком быстро он смотался на своем личном транспорте. Петр решил, что ему тут делать нечего, лучше провести лишние два — три часа последнего вечера отпуска с Марусей. С ней все так удачно наладилось после памятного свидания у лимана.
— Подожди, Петя, — сказал Камышев и постучал о графин карандашом, призывая к порядку Татарченко, сцепившегося с мрачным, как градовая туча, Никодимом Белявским, обиженным и оскорбленным слиянием руководимой им артели. — Хочу заверить тебя в присутствии правления: мы дадим тебе эмтефе имени Четырех павших лейтенантов. Дослуживай по-прежнему честно, езжай на корабль спокойно, передай привет Севастополю. Обороняли и освобождали его некоторые наши колхозники, да и убитые есть, и на Сапун-горе, и на Мекензии. — Камышев сам умилился своим прочувствованным словом, оглядел всех и, встретив понимание, продолжал: — Так и передай морякам от казаков-черноморцев. И на этом точка. Второе — спасибо, что сумел найти себя, Петя. Ты понимаешь, на что намекаю. Спрашивали меня недавно критически в крае: что это ты, Камышев, придумал за фокусы — формировать семьи. Отвечаю — крону яблони и то формируют, а почему же зазорно формировать человеческие семьи? Станешь семейным — потребуются средства. Гарантийных будешь иметь в месяц шестьдесят трудодней, за упитанность отдельно, за то и се… Ну, ей тоже найдем должность в поликлинике…
Латышев наклонился к председателю и что-то шепнул ему, Камышев с недоумением пожал плечами и оборвал свою речь, можно сказать, на полуслове.
— Латышев, что ты его перебил? — Татарченко пристукнул палкой. — Почему так получается у вас, у партейных: как насчет общих проблем разговор — киваете, довольны, а как подходит личная заинтересованность — шептуна пускаете на ухо, замолчи, мол, это не для мировой революции, дырка от бублика.
— Простите, я и не думал… — растерянно произнес Латышев.
Все засмеялись, заседание сразу приняло другой характер. Улыбался Кривошапка, внимательно наблюдая за Петром Архипенко, который обрадовался тому, чту перестал быть центром внимания.
— Сбежал один шалопай, найдутся другие, получше, на его место! — воскликнул Камышев. — Жаль, что в повестке дня засунули дело Помазуна в отсевки, а нужно было его главным вопросом поставить. Не любил он землю, не чувствовал ее. Земля легкого поведения не выносит. Она отомстит. Нищий буду, а от нее не уйду, не покину ее. Не потому, Латышев, что я путиловский пролетарий и мне повезло к чернозему прикантоваться. Нелегко тут у нас, на Кубани, потому на виду. Был я в Ленинграде, иссяк белый хлеб за Нарвской заставой. Ну, видать, всего-навсего перебой в товаропроводящей епархии. Сейчас родичи ко мне с вопросом: на Кубани неурожай? О Кубани и сказок много, и нелепостей. Одним сдается, что тут народ только на гармошках играет и лозу с коня рубает; другим — что тут одни лодыри царя небесного живут, сунул дышло — тарантас вырос; третьи просто не доверяют ни нашим радостям, ни нашим печалям. Чуть что: «А вы бы попробовали в Калуцкой погарцевать на кислоземье и суглинках!»
Пусть уходит с правления старшина Петр Архипенко, поддержим его желание не потерять последний вечер на заседании, а тем более в одиночестве. Ждет его Маруся возле колхозного клуба, вот-вот начнется интересный фильм, спешит к ней Петр Архипенко, не разбирая, где тропка, где застаревшая, ломкая и пыльная лебеда, стреляющая под ногами, как из ружья. Не будем мешать последнему свиданию, поговорим еще о Кубани, продолжив мысли Михаила Тимофеевича Камышева.
Было время, когда хмельно и просторно лежали нетронутые степи, те самые, где кочевали дикие племена, степи, по которым пролетали монгольские орды, откуда безвозвратно ушло скифское степное рыцарство, зоревая отрасль славянского могучего древа.
Запорожская вольница недолго горевала по дедовским приднепровским раздольям. Боевые курени сечевого товарищества встречала не менее яркая природа, нехоженая и неезженая великая равнина, делай с ней что хочешь! Вначале никто не думал о дополнительной силе удобрений, и перегнойные навозы за ненадобностью вываливали в балки — все это богатство не сформуешь в кизяки.
Немереную землю постепенно обратили в паевые казачьи наделы, обошли ее вдоль и поперек деревянными саженями, напоили магарычами. Скупо кормились возле казачьих угодий отхожие крестьяне из Центральной России. Приходили в голодовье, жмурились, крестились, глазам не верили. Возвращались назад, рассказывали легенды. Иные оставались — не сдвинешь, не вернешь, обратно не заманишь куцыми полосками глинистой хилой земли.
Чернозем великой равнины притягивал людей и капиталы, набивал ссыпки тяжелым и крупным, как горох, пшеничным зерном; в лавках — красный товар, на складах кредитных товариществ — аксайские плуги, жатки, паровые молотилки, на биржах — строительный лес. Хищно и стремительно высасывалась земля.
Казачьи семьи и сами себя не щадили, до запала работая на загонах, и полностью черпали доходы от дешевой силы пришедших из «Расеи» батраков.
Почва начинала хиреть. Усталость пришла к земле раньше, чем ожидали. Зерно перестало наливаться прежним янтарным окружием, хуже кустились и развивались озимки, а слабые растения легче побеждались истощающими ветрами Средней Азии и прикаспийских полупустынь с их монотонным погребальным ветровым пением.
В революцию по затравевшим наделам скакали конные сотни, колесили обозы и артиллерия, метались кулацкие банды. Сизые осоты, донники, буркуны, татарник вымахивали в человеческий рост, прикрывая плодовитое племя степного зверья и грызунов; саранча спокойно шла на зимовки в прилиманье. На борьбу за плодородие земли встал коллектив. Трудов и опасностей было немало. Ведь не война. Тут не ударишь в упор картечью из полевой трехдюймовки, не прочешешь пулеметным стальным гребнем. Иного поворачиваешь так, а он норовит обратно. Хоть хуже, да знакомо. Не гони меня прорубаться в тернах — а вдруг там гадюки! Мечты опирались на крепкие опоры. Впервые рабочий не только заинтересовался крестьянином, но стал его помощником и другом. Возникла надежная связь, названная старым русским словом — смычка.
Ознакомительная версия.