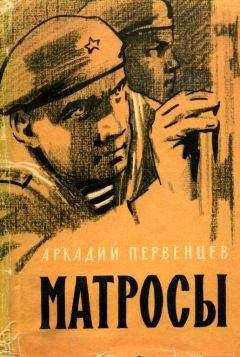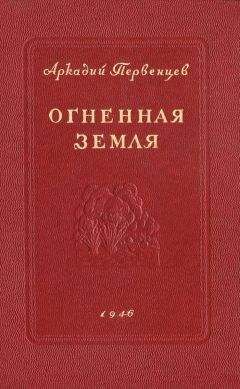Ознакомительная версия.
Машины, машины и машины! Только они могли помочь. И машины пришли на поля в своем могуществе, надежные, добротные, разливающие по жилам своим огненную силу бакинской, грозненской и майкопской нефти.
Чтобы сохранить влагу в почвах, следовало пахать и сеять одним махом. Дуй не дуй высасывающий ветер, а мокрина надежно скрыта под взрыхленной землей, семя может набухать, лопаться, ростку легче пробиться на волю.
Правила обработки почвы возникали теперь не из первобытных крестьянских инстинктов и сомнительных примет. Наука пришла и в полевой стан, и в вагончик трактористов, и в крестьянскую хату.
Старались ускорить процесс созревания, аккуратней вынянчить семя. Чтобы поскорее освободить зародыш от кольчужной тяготы оболочки, крестьяне вымачивали семена в теплой воде, запеленывали в мокрое тряпье семена огурцов и тыкв, кукурузы и арбузов, свеклы и кабачков, проращивали картофель. Теперь яровизировались и злаки. Агрономы научили сеять крест-накрест, гнездами и в квадрат. Геометрия посева диктовалась машиной, мерной проволокой, хотя не обходилось и без верного глаза.
Люди, везде нужны были люди, сколько бы ни присылали механизмов. Люди также требовали забот и внимания, не всегда плата за труд была равноценна затраченным силам. Что же, теперь ни для кого не секрет, какие процессы возникали в деревне до пятьдесят третьего года.
Для Петра все впереди, и розы и терны, и победы и поражения. Все, чему подвергается строй, испытывает и боец, стоящий в этом строю.
А пока легко вились ленточки бескозырки, ясно было на сердце, будущее казалось безоблачным.
Невдалеке от станицы глубоко прогнулась в степи балка. Издавна называлась она Прощальной. Здесь семьи и близкие расставались с казаками, уходившими на службу, в лагеря или на войну. На гребне проливали последние слезы, а потом казаки спускались книзу, перескакивали теклину и появлялись на противоположном гребне. Последний привет — и отстукивали дробную музыку кованые копыта. Уносили кони казаков.
До Прощальной балки ехали двумя семьями. Расставаясь с матерью, Петр нагнулся к ее руке, и она поцеловала его в голову. С Марусей обнялись, поцеловались.
На тракте вставали и ложились за пылью курганы, тиной пахли камышовые речки, бежали в своем бесконечном однообразии распаханные массивы. В город приехали рано — рынки еще не отторговались.
На площади густо стояли повозки и автомашины с мукой, арбузами, помидорами, птицей, виноградом. Разноголосо шумела толпа, характерная для южных базаров. Зазывно предлагали кисляк и пирожки. Гул толпы смешивался с шумами рынка, выкриками торговцев, звуками гармошек у походных шашлычных, ржанием коней…
— Внимание, внимание! — кричал чей-то знакомый Петру голос из репродуктора возле брезентового круглого и высокого шатра. — Говорит аттракцион «Круг смелости». Поднимайтесь наверх! Через пять — шесть минут начало сеанса. Мотогонки по вертикальной стене. Самый молодой рекордсмен, артист государственных цирков Степан Помазун! Стоимость билета три рубля! Повторяю…
«Помазун! — сообразил наконец Петр. — Сам себя объявляет. Вот тебе и Помазун!»
Завели пластинку:
Вот солдаты идут
По степи опаленной…
На тротуар выполз на четвереньках инвалид и поднял кверху небритое, худое лицо. У человека не было ног. Вместо них не костыли или тележка, а две дощечки, прикрепленные ремнями к обрубкам. На ладонях тоже дощечки. Руки в коричневых шерстяных носках. Поверх гимнастерки синяя стеганка.
Глаза его смотрели на раструб репродуктора, как на солнце. Он, страдальчески прихватив зубами нижнюю губу, вслушивался в песню об усталых солдатах, идущих в потных гимнастерках. У него синяя стеганка, на ней медали, на нем чистая рубаха — кто-то заботится. По щекам инвалида текли слезы, и он не стеснялся их — солдат, тоже когда-то ходивший по опаленной степи…
«Круг смелости» начался. Где-то внутри палатки, в деревянной бочке, носится Помазун. Трещала, гремела и дымилась бочка вертикального круга. Запахи отработанного бензина проникали сквозь рваную парусину.
Закончился сеанс, и Помазун увидел Петра.
— Здорово, Петя! Вот так аномалия! Гляжу — глазам не верю, думаю — закрутился. Гляжу опять — нет, правда, Петя! Видишь, у меня тоже техника! Город сразу пришел навстречу. Раньше месяц да теперь две недели тренировали — Степа в бочке, как зверь.
Непривычно было видеть Помазуна в таком наряде — в узких кожаных штанах, в куцей курточке.
— Артист государственных цирков. Удивляешься? Комбинация! На конях не справился. Одно дело — в степи на кабардинке, другое дело — на арене. Дрессировать надо, кони не слушают. На мотоцикле хотя и шумней, а выгодней. Кончил отпуск?
— Да.
— Твое дело ясное. Мы свое отслужили.
— Нашел себя на новом поприще? — Петр угостил Помазуна папироской.
— Бочка. Для огурцов самый раз, а человеку тошно.
— Быстро разочаровался.
Помазун присел на корточки.
— Какая-то неувязка получается у меня с сердцем. Раньше не обращал внимания. Покалывало и покалывало. А тут намотаешься за день в бочке, в глазах темнеет. Дам десять сеансов — и уже больной, хоть котлеты с меня лепи. Да еще на грех мотоцикл. Работаю на своем. А я его порядком потрепал еще в станице. Камеры тоже неважнец. А если лопнет камера… смерть! Стенка плохая, шатается, трещит, пыль летит. Рассказывали случай. Был такой отчаянный гонщик. Отказало у него управление, саданулся вниз! Рулем проткнул себе печенку, как пикой. Можно свободно сыграть в ящик на этой стенке, бо не знаешь, когда она вздумает рассыпаться…
Помазун торопливо рассказывал о своей новой жизни и даже не искал сочувствия у Петра. Шильца его усиков опустились книзу, в глазах появилась неуверенность, щеки посерели. С лица успел сойти медноватый степной загар.
— Что же, никто не неволил. На себя маши кулаками.
— Нет. Почему? Ты меня, видно, не так понял. Деньги живые. Отдай, а то… потеряешь.
— Разве только в деньгах дело, Степа?
— Без них человек как свадьба без музыки. Кстати, как твои амуры?
— Сговорились с Марией крепко… — Петр посветлел. — Свадьбу сыграем с музыкой на тот год, после демобилизации. По-старому сказать — обручились.
— Желаю успеха, Петя. Мне пора. Можешь полюбоваться, пропустят без билета. — Помазун поиграл часами с секундомером. — Вернешься, верю. Авансов много надавал и Марусе, и нашему колхозному фанатику. А вот сколько продержишься у сырой мать-землицы — не знаю. Думаю, тоже на асфальт потянет.
— Не потянет.
— Скажешь гоп, когда перескочишь, Петя. Тебя сейчас обхаживали, горы обещали. Это пока к ним в штат не вошел. А хомут натянут, вожжи возьмут — и только уши востри, чтобы не прозевать, когда «но», когда «тпру» скомандуют. Нажевался я этой зажиточной радости, как тухлой колбасы…
— Не туда забрался, Степан, — остановил его Петр, недовольный такими речами. — Твое дело теперь бочка, а из нее много не увидишь. Сектор обозрения, прямо отметим, куцый.
— Может быть, — холодно заметил Помазун. — Прощай, Петя. Желаю тебе наилучшего румба. — Секундомер снова блеснул в его руках. — Как Машенька?
Вопрос был задан как бы невзначай. Степан ждал ответа, потупив глаза и покусывая кончик черного усика.
— Не тянет к ней? — в открытую спросил Петр.
— Тянет, но держусь, — дрогнувшим голосом признался Помазун. — Думал, Петя, в люди выскочить, а видишь, на мотоцикл вскочил. Наездник из Уйль-Веста. Снится мне Машенька, комариная талия, сережки ее, ротик бутончиком. Да если ее приодеть, хоть в кино снимай.
— Приезжали операторы, снимали ее звено.
— Да ну?
— Честное слово. Возвращайся, Степан. Не ищи гривенник на голом месте.
— Стыдно. Проходу не дадут.
— Вначале — да. А потом помилуют. Забудут.
— Это верно. Подумаю. Если написано в моей курикулевите вернуться в станицу — рачки долезешь. А не обозначено — на аэроплане не долетишь. Прощай, Петя! Если откровенно, себе не завидую… Не ищи легкого хлеба и сахарной феи. Один мираж!
Помазун ушел за брезентовую перегородку, и вскоре послышался яростный рев мотоцикла.
Подул ветер. Небо заволокло тучами. По базарной площади закрутилась пыль. Петр поглубже надвинул на голову бескозырку и пошел к трамваю: надо было спешить на вокзал. Впереди снова Севастополь.
Неужели это он, Петр, появился у запотевшего стекла автобуса, увидел ее, звал, бежал рядом с автобусом и, конечно, отстал, так и не сумев раскрыть плотно захлопнутую дверь? Возможно, и он, хотя не все ли теперь равно для нее, Катюши? Прошлое ушло так стремительно, будто провалилось в пропасть, улетело вниз, как камни с крутой скалы на мысе Фиолент. Но там, внизу, яркий бирюзовый залив, чистая вода, обнажающая камни на дне, увитые бледно-синими водорослями. А здесь — мрак, пустота, безысходность…
Ознакомительная версия.