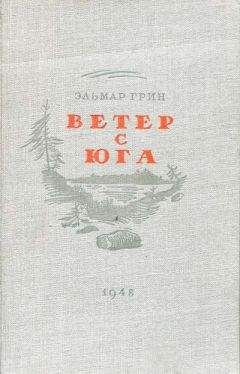Она удивилась:
— Ты же хотел дня четыре никуда не ходить.
— Схожу к ним утром.
Утром они действительно уже грузились. Все их пожитки поместились на одной подводе, которую собирался везти упитанный вороной конь. Пааво Пиккунен стоял рядом и держал вожжи. Какой он стал маленький и сухой! Или это только лицо его так сморщилось? Вдобавок оно было серое от холода. Стояла осенняя пасмурная погода с легким ветром, который носил по воздуху последние желтые листья. Еще далеко было до морозов, а Пааво уже мерз. На плечах его была зимняя теплая тужурка, а глаза слезились от холода.
Когда он увидел меня, в его глазах зажглась радость, и мелких складок вокруг них стало еще больше. Я пожал его маленькую жесткую руку и спросил:
— Как живешь?
Он ответил: «Ничего» и продолжал глядеть на меня с улыбкой. Я тоже улыбался ему. Так мы простояли несколько минут, а потом я спросил:
— Куда собрался?
Он кивнул головой на людей, которые суетились вокруг воза, наполненного узлами, и ответил:
— На станцию.
Нельзя сказать, чтобы эти мужчины, женщины и дети были хорошо одеты. Не очень-то легко одеться сейчас в обедневшей Суоми. Но они, как видно, не особенно заботились об одежде.
Все они были заняты какими-то другими мыслями и даже не смотрели на меня. Они видели, наверно, в эти минуты перед собой что-то такое, чего мне никогда в жизни не увидеть.
Только два маленьких мальчика остановились подле меня, и один из них сказал:
— Какой большой дядя.
На эти слова оглянулся пожилой, худощавый мужчина в куртке и резиновых сапогах. Он вынул трубку изо рта и сказал:
— Вот если бы этот большой дядя помог мне мешок поднять…
Я помог ему забросить тяжелый мешок с мукой на самый верх воза и спросил:
— В Россию?
Он ответил:
— Да. Домой.
И глаза его опять стали смотреть в какой-то другой мир, и в них была забота. Меня это несколько обидело, и я спросил:
— Не понравилось у нас?
Он пожал плечами, продолжая думать о чем-то далеком.
— Напрасно уезжаете, — продолжал я, — ничего там хорошего нет. Колхозы. А у нас можно дом купить, землю получить…
Что-то захрипело позади меня. Я оглянулся. Это Пааво рассмеялся так, что закашлялся и захрипел. Но в глазах его не было смеха.
Я еще немного поговорил с этим худощавым человеком. Я пытался ему доказать, что в Суоми лучше, чем в России. Нет в мире лучше страны, чем Суоми, и он напрасно покидает ее. Или, может быть, он думает, что она хуже России? Он ошибается, если думает так. Он просто не знает еще Суоми. Он не читал наших газет и журналов, не слушал нашего радио, не слушал наших учителей в школе и пасторов в церкви. А надо было все это читать и слушать, если он хотел узнать, что такое Суоми. Но, может быть, он вовсе не желает знать, что такое Суоми, и считает, что есть на свете края получше. Так я говорю, что он ошибается, очень даже ошибается!
Но он не спорил со мной. Он только кивал головой, косясь на меня удивленно одним глазом, и выбирал удобную минуту, чтобы отойти от меня. И вот понадобилось помочь стянуть веревку на возу, и он отошел.
Но я не считал, что кончил свой разговор с ним. Не мог я его так отпустить. И когда они уже окончательно снарядились в путь, я снова подошел к нему и сказал:
— Ну, счастливый путь, приятель. Тебя как звать?
Он посмотрел на меня с удивлением и ответил:
— Степан Котилайнен. А тебя?
— Эйнари Питкяниеми. Счастливо доехать домой.
— Спасибо. Доедем как-нибудь.
И они зашагали всей гурьбой за возом на станцию, чтобы уехать в Россию. А я подумал: «Вот будет у меня в России теперь один знакомый человек, который пожал мне руку и знает мое имя. Может быть, он вспомнит меня иногда…»
И я даже усмехнулся про себя — так по-детски все получилось. Зачем это мне понадобилось, чтобы кто-то вспоминал меня в России? Вовсе я в этом не нуждаюсь. Так… шутка. Глупеть я начал на старости лет… Но ничего. Пусть будет у меня один знакомый человек в России, хе-хе! Пусть, бог с ним. И я смотрел вслед ингерманландцам, пока они не скрылись за поворотом дороги вместе с лошадью и с Пааво Пиккунен, который шел рядом с возом, держа в руках конец вожжей.
А потом я заметил, как что-то замелькало слева от меня. Это раскачивался из стороны в сторону широкий подол платья нейти Куркимяки и развевались полы коричневого пальто, туго стянутого кушаком на ее тонкой талии. Она шла от желтого крыльца своего большого дома по еловой аллее, шла быстро, прямо ко мне. Надо полагать, что у нее была причина для такой спешки. Но ведь я не смотрел в ту сторону и мог ее совсем не видеть. Я смотрел вслед ингерманландцам. Только их я видел. И махнув им вслед своей кожаной шапкой, я, не оглядываясь, зашагал домой.
Но когда я обогнул коровник, то услышал, как меня кто-то позвал:
— Эйнари!
Это был мужской, очень громкий голос, который нельзя было не услышать. И когда он позвал меня еще два-три раза, я оглянулся.
У средних ворот коровника стоял хозяин и манил меня к себе рукой. Я постоял немного на месте, не зная, идти к нему или нет. Ведь я не собирался в этот день работать. Но когда он сам пошел ко мне, я тоже двинулся к нему навстречу. Как-никак это был мой хозяин, и неудобно было не уважать его. Он крепко пожал мне руку.
— Вернулся, наконец? Поздравляю. Ну как? Цел? Не ранен?
— Нет…
— Это хорошо. А когда можешь приступить?
Я не знал, что ему на это ответить, и молча смотрел на его обвисшие веки и на щеки, припухшие снизу. Они за эти годы припухли и порозовели у него еще больше. Да и весь он немножко потолстел. Можно было подумать, что вся полнота как-то обвисает на нем и сползает книзу.
Я не знал, что ему ответить, и смотрел на него сверху вниз, сжав губы.
А он спрашивал:
— Может быть, завтра выйдешь? Это было бы очень кстати. Проклятые русские забрали у меня ингерманландцев. Сегодня уже работаем сами: я, жена, дочь. Будут приходить еще две доярки на помощь к твоей Эльзе, но этого мало. Так ты завтра выйдешь или хочешь отдохнуть денек?
Я все еще молчал, хотя невежливо было не ответить. Он никогда не говорил со мной с такой просьбой в голосе.
Но меня взяла досада. Ведь я хотел отдохнуть по крайней мере четыре дня, оставшихся до воскресенья, чтобы навести порядок возле дома. А он спрашивает: «Завтра выйдешь?» Ну что ж, если уж так приперло, выйду послезавтра.
Так я решил про себя, но ему забыл сказать это вслух, потому что меня грызла досада. И я пошел дальше своей дорогой молча и только по дороге сообразил, что так и не ответил ему. Тогда я остановился, оглянулся назад и увидел, что он все еще стоит на том же месте и смотрит мне вслед.
Должно быть, он сильно был удивлен моей невежливостью. Но на таком расстоянии бесполезно уже было кричать о том, что я приду послезавтра. Я молча пошел дальше, медленно передвигая ноги в тяжелых сапогах, потому что был еще слаб и голоден и быстро уставал.
А через день я пришел на работу, как решил, хотя досада моя еще не прошла. И хозяин опять удивленно глянул на меня исподлобья. На этот раз он уже не подошел ко мне и не пожал руку. А когда я приподнял свою шапку и сказал: «Terve», он тоже ответил: «Terve» и добавил:
— Пришел все-таки? Хорошо. Очень хорошо. Будем работать.
Но и после этого он продолжал очень недоверчиво коситься на меня.
Я очень мало сделал в первый день своей работы после войны. Очень мало. Я вычистил один погреб и выложил его изнутри соломой, чтобы можно было туда засыпать картошку. Заодно я вычистил ледник для зимнего льда. В нем был очень скверный запах и много воды на дне, которую пришлось выкачивать насосом.
Потом я выкинул навоз из коровника и постлал коровам свежую солому, починил телегу, на которой в ближайшие дни предстояло вывезти весь накопившийся позади коровника навоз на картофельное поле будущего года, где его нужно было еще успеть запахать на зиму. Телега была все та же, прогнившая насквозь, и я кое-где опять скрепил ее свежими деревянными планками, как когда-то до войны.
В конюшне я сменил подстилку и вычистил лошадей. Их теперь было семь, если не считать молодняк. Черный большой конь, увозивший ингерманландцев, назывался Mustalainen.[36] А Великан разъелся так, что любо было посмотреть. Бодрый совсем округлился. Я вычистил его и долго похлопывал по жирному широкому крупу, на котором темная кожа лоснилась, как шелк.
Да. Это хорошо иметь свою лошадь. Не каждый даже понимает, как это хорошо. И, может быть, меньше всего понимает тот, у кого их несколько.
Я очень мало сделал в этот день. Пааво пропахивал картофельное поле для копки, а когда он немного освободился, мы вместе с ним привезли на гумно два воза ржаных снопов и забили ими колосники в риге, а потом растопили ее. В четыре часа утра следующего дня нам предстояло молотить эту рожь. Ингерманландцы так и не успели домолотить весь хлеб, и на нашу долю осталось еще полторы скирды ржи, две скирды пшеницы и четыре скирды овса.