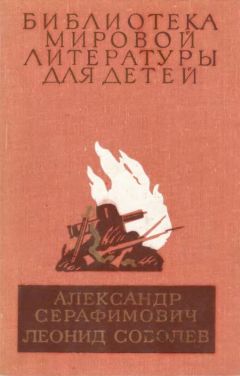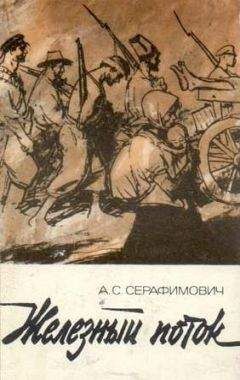А шоссе, шаловливо свернувшись петлей, извилисто спускается к самому морю. По голубой беспредельности легла — смотреть больно — ослепительно переливающаяся солнечная дорога.
Прозрачные, стекловидные, еле приметные морщины неуловимо приходят откуда-то издалека и влажно моют густо усыпанную по берегу гальку.
Громада ползет по шоссе, не останавливаясь ни на минуту, а хлопцы, дивчата, ребятишки, раненые, кто может, сбегают под откос, сдергивают на берегу тряпье штанов, рубашонки, юбки, торопливо составляют в козлы винтовки, с разбегу кидаются в голубоватую воду. Тучи искр, сверкание, вспыхивающая радуга. И взрывы такого же солнечно искрящегося смеха, визг, крики, восклицания, живой человеческий гомон, — берег осмыслился.
Море — нечеловечески огромный зверь с ласково-мудрыми морщинами — притихло и ласково лижет живой берег, живые желтеющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крика, гоготанья.
Колонка ползет и ползет.
Одни выскакивают, хватают штаны, рубахи, юбки, винтовки и бегут, зажав под мышкой провонялую одежду, и капли жемчужно дрожат на загорелом теле, и, догнав своих, под веселое улюлюканье, гоготанье, скоромные шутки торопливо вздевают, на шоссе, пропотелое тряпье.
Другие жадно сбегают вниз, на ходу раздеваются, кидаются в гомон, брызги, сверканье, и притихший зверь теми же набегающими старыми прозрачными морщинами ласково лижет их тела.
А колонка ползет и ползет.
Забелели дачи, забелели домики местечка, редко разбросанные по пустынному берегу. Сиротливо растянулись вдоль шоссе.
Все жмется к узкому белому полотну — единственная возможность передвижения среди лесов, скал, ущелий, морских обрывов.
Хлопцы торопливо забегают ка дачи, все обшарят, — пусто, безлюдно, заброшенно.
В местечке коричневые греки с большими носами, черносливовыми глазами, замкнуты, молчат с затаенной враждебностью.
— Нету хлеба… Нету… сами сидим голодные…
Они не знают, кто эти солдаты, откуда, куда и зачем идут, не расспрашивают и замкнуто враждебны.
Сделали обыск — действительно нет. А по роже видно, что спрятали. За то, что это не свои, а грекосы, позабрали всех коз, как ни кричали черноглазые гречанки.
В широком, отодвинувшем горы ущелье русская деревня, неведомо как сюда занесенная. По дну извилисто поблескивает речонка. Хаты. Скот. По одному склону желтеет жнивье, пшеницу сеют. Свои, полтавцы, балакают по-нашему.
Поделились, сколько могли, и хлебом и пшеном. Расспрашивают, куда и зачем. Слыхали, что спихнули царя и пришли большевики, а як воно, що — не знают. Рассказали им все хлопцы, и хоть жалко было, ну, да ведь свои — и позабрали всех кур, гусей, уток под вой и причитанье баб.
Колонна тянется мимо не останавливаясь.
— Жрать охота, — говорят хлопцы и еще туже затягивают веревочки на штанах.
Шныряют эскадронцы по дачам, шарят и на последней даче нашарили граммофон и целую кучу пластинок. Приторочили к пустому седлу, и среди скал, среди лесной тишины, в облаках белой пыли понеслось:
— …бло-ха…ха-ха!.. бло-ха… — Чей-то шершавый голос, будто и человеческий и нечеловеческий.
Ребята шагали и хохотали как резаные.
— А ну, ну, ще! Закруты ще блоху!
Потом ставили по порядку: «Выйду ль я на реченьку…», «Не искушай…», «На земле весь род людской…».
А одна пластинка запела: «Бо-оже, цар-ря храни…».
Кругом загалдели…
— Мать его в куру совсем!..
— Надень его себе на!..
Пластинку выдрали и кинули на шоссе под бесчисленные шаги идущих.
С этих пор граммофон не знал ни минуты покоя и, хрипя и надрываясь, с ранней зари и до глубокой ночи верещал романсы, пески, оперы. Переходил он по очереди от эскадрона к эскадрону, от роты к роте, и, когда задерживали, дело доходило до драки. Общим любимцем стал граммофон, и к нему относились, как к живому.
Пригнувшись к седлу, сбив папаху на самый затылок, скакал по краю шоссе навстречу двигающимся кубанец, крича:
— Дэ батько?
А лицо потное, и лошадь тяжело носит мокрыми боками.
Облака над лесистыми горами вылезли огромные, круглые, блестяще белые и глядят на шоссе.
— Мабудь, гроза буде.
Где-то за поворотом шоссе стала голова колонны. Ряды пехоты, сходясь и густея, останавливались; наезжая на задки телег и задирая лошадям морды, останавливался обоз, и эта остановка побежала, передаваясь в хвост.
— Що таке?! Ще рано привал.
Бегучее потное лицо кубанца, торопливо носящая боками лошадь, неурочная остановка разлились тревогой, неопределенностью. Разом придавая всему зловещий смысл и значение, где-то далеко впереди слабо раздались выстрелы — и смолкли. Звук их отпечатался в наступившей тишине и уже не стирался.
Граммофон смолк. Торопливо проехал в бричке в голову колонны Кожух. Потом оттуда прискакали конные и, нечеловечески матерно ругаясь, загородили дорогу.
— Геть назад!., стрелять будемо!.. Щоб вы подохли тут до разу!..
— …Вам говорить… Там бой зараз буде, а вы лизите. Не приказано. Кожух стрелять по вас звелив.
Сразу все налилось тревогой. Бабы, старики, старухи, дивчата, ребятишки подняли плач и крик.
— Та куда же мы?! Та що ж вы нас гоните, що нам робыты? И мы з вами. Колы смерть, так одна.
Но конные были неумолимы.
— Кожух звелив, щоб пьять верстов було промеж вами и солдатами, а то мешаете, драться не даете.
— Та чи мы не ваши? Там же мий Иван.
— А мий Микита.
— А мий Опанас.
— Вы уйдете, а мы останемся, — спокинете нас.
— Та вы задом думаете, чи як? Вам сказано: за вас же бьются. Як расчистють дорогу, то и вы пийдете по шаше за нами. А то мешаете, бой буде.
Повозки, сколько видно, грудятся друг на друга. Столпились пешие, раненые; мечется бабий вой. Запруживая все шоссе на десятки верст, замер обоз. Мухи обрадовались и густо чернеют на лошадиных спинах, боках, шеях; облепили ребятишек; и лошади отчаянно мотают головами; бьют копытом под пузо. Сквозь листву синеет море. Но все видят только кусок шоссе, загороженный конными, а за конными стоят солдатики, свои же хлопцы с винтовками, такие близкие, такие родные. То сидят, то свертывают цигарки из листьев широкой травы и насыпают сухую же траву.
Вот шевельнулись, лениво подымаются, тронулись, и все шире и шире открывается шоссе, и эта уширяющаяся полоса, над которой пустынно садится пыль, таит угрозы и несчастье.
Конные неумолимы. Проходит час, другой. Пустое шоссе впереди тягостно белеет, как смерть. Бабы с набрякшими глазами всхлипывают и причитают. Сквозь деревья голубеет море, и на море из-за лесных гор смотрят облака.
Неведомо где упруго и кругло всплывает орудийный удар, другой, третий. Загрохотал залп и пошел раскалываться и грохотать по горам, по лесам, по ущельям. Мертво и бесстрастно потянул дробную строчку пулемет.
Тогда все, сколько ни было кнутов, стали отчаянно хлестать лошадей. Лошади рванулись, но конные, сверхъестественно ругаясь, со всего плеча стали крестить нагайками лошадей по морде, по глазам, по ушам. Лошади, храпя, крутя головами, раздувая кровавые ноздри, выкатив круглые глаза, бились в дышлах, вскидывались на дыбы, брыкались. А сзади подбегали от других повозок, нечеловечески улюлюкали, брали в десятки кнутов; ребятишки визжали как резаные, секли хворостинами по ногам, по пузу, стараясь побольнее; бабы истошно кричали и изо всех сил дергали вожжами, раненые возили по бокам костылями.
Обезумевшие лошади бешено рванули, смяли, опрокинули, разметали конных и, вырываясь из худой сбруи, в ужасе храпя, понеслись по шоссе, вытянув шеи, прижав уши. Мужики вскакивали в телеги; раненые, держась за грядки, бежали, падали, волочились, отрывались, скатывались в шоссейные канавы.
В белесо крутящихся клубах несся грохот колес, нестерпимое дребезжание подвешенных ведер, отчаянное улюлюканье. Сквозь листву мелькало голубое море.
Остановились и медленно поползли, только когда нагнали пехотные части.
Никто ничего не знал. Говорили, что впереди казаки. Только казакам неоткуда взяться — громады гор давно отгородили их. Говорили, будто черкесы, не то калмыки, не то грузины, не то народы неизвестного звания, и сила-рать их несметная. От этого еще неотступнее наседали беженские телеги на войсковые части, — ничем нельзя было отодрать, разве перестрелять всех до единого.
Казаки ли, грузины ли, черкесы ли, калмыки ли, а жить надо. Опять граммофон на лошади запел:
Уй-ми-и-тесь, вол-не-ния страс-ти…
В разных концах хлопцы заспивали. Шли, как попало, по шоссе. С шоссе карабкались в гору, драли о сучья, шипы, иглы последние лохмотья, искали одичавшие, нестерпимо кислые мелкие яблоки и, сморщившись и по-звериному перекосив рожу, набивали живот кислицей. Под дубом собирали желуди, жевали их, и горькая, едкая слюна обильно бежала. Потом вылезли из лесу — голые, с кроваво-изодранной в лохмотья кожей — и обвязывали остатками тряпья стыдное место.