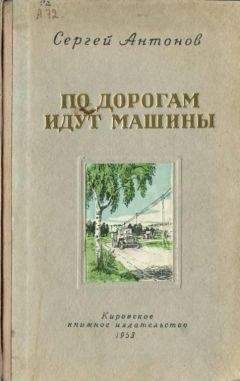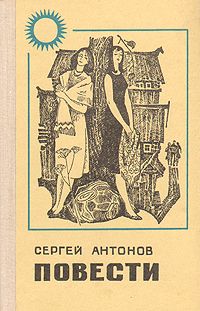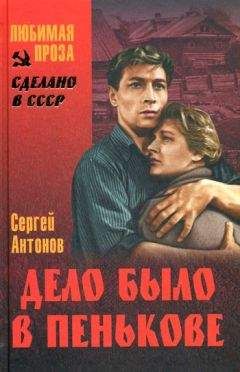Что ты видишь в снах своих? Что тянет тебя на непривычные, на самые трудные дела? Какая волна поднимает тебя? Какая волна поднимает тебя так высоко, что и не поговорить с тобой и не понять тебя твоей матери…
13
Дементьев ехал в Шомушку и недовольно хмурился, в десятый раз стараясь решить, как держаться с Леной: равнодушно-официально, обиженно или попрежнему говорить с ней так, как станет подсказывать сердце?
Но поля, медленно вращающиеся с обеих сторон, женщины в разноцветных платках, лошади, запряженные в плуги, бурые откосы, разлинованные нежнозеленой озимью, — все это отвлекало агронома и мешало ему думать. Недалеко постукивал «сталинец», и человек пять ребятишек как-то умещались на нем вместе с трактористом. Одна за другой появлялись деревни, где среди серых строений желтели новые избы, крытые пышной соломой, с палисадами, с воротами из свежих шелковых досок. И снова шли пашни, люди, тракторы.
«Глупости, — думал Дементьев, радостно ощущая себя частью этого работящего, накрытого чистым голубым небом мира. — Нужно не обращать внимания на ее девичье лукавство. Зачем нагонять на себя злость на нее, если в самом деле нет этой злости? Сам-то я хорош! Говорил ли я ей когда-нибудь серьезно, что я ее люблю? Нет, не говорил. А теперь приеду и скажу. Вот и все».
И то ли оттого, что вокруг, по всей земле, шла налаженная работа, то ли от светлых мыслей и яркого солнца — в душе Петра Михайловича утвердилось чувство спокойного, уверенного ожидания чего-то хорошего.
Начались поля Шомушки.
Поглядев на пашни, агроном сразу заметил, что сеять начали только сегодня. Как это часто бывает, в первый день дело шло плохо. Трактор с сеялкой неподвижно чернел на пашне, и на сеялке сидел грач. Четыре растрепанные женщины лежали на брезенте у самой дороги.
— Почему не работаете? — спросил Петр Михайлович, резко одергивая жеребца.
— А чего нам делать? Машина стоит.
— Где тракторист?
— Побег к начальству. Председатель не велит сеять.
Дементьев хлестнул жеребца и поехал дальше, разыскивая глазами председателя. «Наверное, дома прохлаждается. Поеду прямо к избе».
Чувствуя настроение хозяина, жеребец занервничал.
Дома председателя не было. Не было его ни в правлении, ни у конюшен, ни у кузницы, ни у вагончика МТС. Всюду говорили: «Был только что, да пошел вон в ту сторону». Так всегда говорят про свое начальство. Агроном решил уже итти на поле один, но вдруг сзади послышалось:
— Товарищ Дементьев! А я за вами всю деревню избегал. Вот глядите, тут у нас с эмтеэсом опять война открылась.
Председатель, потный и вымазанный в грязи, подошел и стал объяснять. Оказывается, эмтеэсовцы пропахали по зяби на глубину семнадцать сантиметров вместо двадцати и оправдываются тем, что глубже пахать нельзя, потому что грязь и получается большой пережог горючего. Дементьев с председателем пошли на поле. Действительно, пашня была бракованная. Правильно сделал председатель, запретив сеять на такой пашне. Пришлось искать механика МТС, ругаться, заставлять наново регулировать плуг, грозить составлением акта. Потом начали налаживать подвозку зерна, и Дементьев, забыв о Лене, до самого вечера советовал, хвалил, грозился и наконец устал — сел передохнуть, и им снова овладело чувство ожидания чего-то хорошего. Он оглянулся. Солнце садилось. Колхозники расходились с поля, и только трактор стучал за бугром так, словно там выбивали половики.
— А как дела у комсомольцев? — спросил он Павла Кирилловича.
— Как у всех. Сеют, — ответил председатель, глядя в ноги.
— Пойдемте посмотрим.
— Чего же смотреть-то. Уже отбой. Все дома.
— Как хотите. Тогда я один схожу.
Председатель отправился в деревню, а Дементьев — по тропке на поле. Он никого не надеялся увидеть там — просто хотелось посмотреть, как подготовлена земля.
Вдруг он увидел Лену. Лена была далеко, на самом краю пашни, у маленькой речки, впадающей в Медведицу. Она стояла нагнувшись, широко расставив ноги, доставала из мешочка зерно и аккуратно закладывала его в землю. Возле нее на корточках возился Огарушек. Дементьев подошел. Лена заслоняла головой заходящее солнце, и волосы ее казались раскаленными.
— Мальчик, — сказал Дементьев, — сбегай, друг, на дорогу, посмотри, нет ли там председателя.
Огарушек побежал.
— Или вы не знаете, где председатель? — спросила Лена, не оглянувшись.
— Знаю. Я хочу сказать вам, Лена…
— Огарушек! — закричала Лена.
Дементьев насупился. Огарушек вернулся.
— Чего же ты убежал? — сказала Лена мальчику. — Закапывай, — потом, насмешливо улыбнувшись, взглянула на Дементьева. — Чего же вы смолкли? Вы мне говорить что-то хотели. Говорите.
Все нежное, что было на душе агронома, разом схлынуло:
— Я хотел узнать, — сказал он холодно, — как вы подготовили землю под полуторное количество зерен. Но я поговорю об этом с кем-нибудь другим.
— А вы разве не знаете, что… — начала Лена, но агроном резко повернулся и пошел прямо по пашне к речушке. Пройдя немного по берегу, чтобы скрыться от Лениных глаз, он сел на камень у самой воды.
На противоположном крутом берегу, прямо по отвесной стенке, росли частые прутья орешника. Они густо чернели вдоль берега, и только в одном месте, в прореху между кустами, прорывался последний луч, до того плотный и туманный, что сквозь него ничего не было видно. Дементьев долго сидел и слушал, как в орешнике боязливо и однотонно вскрикивала невидимая птица. Солнце садилось за холмы. С каждой минутой становилось все темней и тише, и птице никто не отвечал, и она снова с тупым отчаянием звала кого-то и прислушивалась.
Река засыпала. От отражения агронома один за другим отрывались овальные куски и исчезали на темном плесе. Вода колебалась лениво и нехотя. И только в том месте, где падал луч, плясали сотни розовых искр, словно там в воду бил бесшумный огненный ливень.
Вдруг Дементьев увидел в воде отражение Лены.
— Я хочу хоть метров пять или десять посадить по-своему, вот и сажаю руками, — сказала она виновато.
— Сажайте, — ответил агроном, не понимая и не желая понимать, зачем ей взбрело в голову сажать зерно руками.
— А это потихоньку, чтобы не знал никто, Петр Михайлович. Вы никому не говорите.
Агроном молчал.
Лена села возле него на камушек.
— Вы обиделись? — неожиданно спросила она.
— Нет.
— Я знаю. Обиделись.
— Не за что мне на вас обижаться.
— Значит, есть за что. Я знаю.
— Чего вы знаете?
— Чего надо, то и знаю.
Оба они смотрели на воду, где шевелились и вытягивались их лица.
— А откуда вы знаете?
— Знаю уж. Только вы не обижайтесь. Если бы я была свободна, так, может, у нас с вами и получилось. Только у меня уже есть.
— Кто?
— Вы его не знаете. Он сейчас в городе Горьком. Отсюда до него по железной дороге тысяча сто восемьдесят километров.
Наступили сырые сумерки. Так же незаметно, как выходит из комнаты мать, убаюкав сынишку и прикрутив лампу, незаметно зашло солнце. Умолкла птица в орешнике. Погасли на воде искры. Темная река неподвижно застыла, и только изредка, когда плотва склевывала водяного жучка, по гладкой поверхности воды разбегались маленькие зыбучие кружочки.
И, наконец, дождавшись полной тишины, на бледно-зеленое небо вышла одинокая яркая звезда.
— Давно он уехал? — спросил Дементьев подумав.
— С полгода, а то и больше.
— Вы не забыли его?
— Как же мне его забывать? Что вы!
— Ну что же. Хорошо. Даже… завидно.
— Ничего. И вы найдете. Не одна я на свете.
— Не просто найти, Лена. Вот живу, живу, а все не найти.
— Найдете. Нашего брата теперь много. Экое добро…
Дементьев поднял голову и посмотрел на Лену.
— Чего вы?
— А сочиняете вы, как всегда. И про горьковского вашего сочиняете. Ничему я теперь не верю…
— Почему же не верите. Хотите докажу?
— Докажите.
— Вот я ему письмо написала. Еще не отправила. Хотите почитаю?
— Почитайте.
Лена развернула сложенный треугольником листок и начала: «Здравствуй, милый мой голубок, Василий Парамонович!»
— А что это за номер — тридцать один?
— Не перебивайте, а то читать не стану. «Здравствуй, милый мой голубок, Василий Парамонович!» Это номер для того, чтобы он складывал письма подряд, я их все нумерую. «Целую тебя, Васичка, в губки твои и в длинные реснички много, много раз.
Васичка, я утром вспоминала тебя и ту рощу, где мы стояли в дождь под березой и ты мне сказал в первый раз про чувство. Я бы и сейчас нашла эту березу.
Васичка, но только я проснулась, так мне стало тошно, что сейчас бы бросила все и пошла пешком к тебе в город Горький.
Но сейчас нельзя. У нас много работы. Мы затеяли сеять больше нормы, а Павел Кириллович не дает зерна ни в какую…»