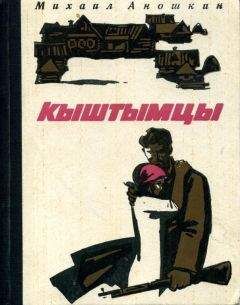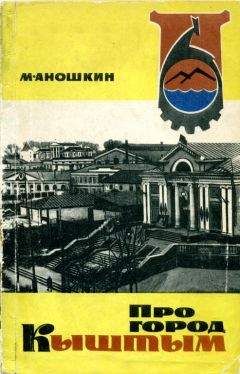— От тоски не умирают. Слышь, намедни Тонька Мыларщикова чуть палкой не огрела Батыза-то. Назарка где-то кутенка подобрал, балуется с ним — дитячья забава. Такой проворный кутенок. Шел мимо Лукашка, а кутенок и принялся на него лаять. Глупая зверюга, а худого человека чует. Лукашка возьми да пни щенка-то. Тот заверещал на всю улицу. Назарка кинулся на Батыза с кулаками. Лукашка его за ухо. Своих-то никогда не бывало, детишков-то вот и не любит. Назарка в рев. Гляжу, Тоня из ворот с дрыном выбегает да на Батыза. А тот видит делать неча — давай бог ноги. Обиходила бы его Тонька, ей-богу, обиходила бы, она такая!
— Бойкая, — согласился Иван.
— И не говори! Тятенька как-то к ней наведался. Михайлы дома не было. Наверно, нарочно подкараулил, чтоб Мишка в бегах был. Леденцов внукам принес. Выгнала ведь.
— Отца-то?
— Его. Не хочу, кричит, твоих подачек, раз проклял — чтоб ноги твоей у нас не было! Как пес побитый, ушел Андрюшка-то Рожков от дочери родной. И поделом ему! Тонька сама себя понимает. А чо это Андрей поперек пошел? Славного себе мужика отхватила, радоваться бы, а ему, вишь, не по ндраву — бедный. Теперь вот бедные-то и прижали богатых, так им и надо! Огород-то нынче думаешь садить?
— А то как же!
— Подмогнуть?
— Сами управимся.
— А то подмогну. Не гляди на меня. Старый-то коняга борозды не испортит. А скворушки-то, гляди, как стараются. Жисть!
Еще долго грелись на солнышке больной Иван Сериков да старый дед Микита Глазков.
А вечером к Сериковым постучался Лука. Глаша не помнила, чтоб он приходил днем. Всегда выбирал темное время — не хотел похваляться дружбой с Сериковыми. Глаша не могла на него смотреть после той истории. Впустила, а сама закрылась в горнице, даже не ответила на приветствие. Иван и Лука остались на кухне. Иван тер подбородок. Лука ерзал на табуретке, не знал с чего начать. Мялись, боясь поглядеть друг на друга. «И чего принесло его? — терзался Сериков. — Должен же человек понимать?» Наконец Лука сказал:
— Я обещанное отдам, не сумлевайся, Иван Митрич, своему слову хозяин. Не твоя вина, с любым могло стрястись.
— Спасибо, но мне ничего не надо.
— Дурного про меня не думай, сегодня же принесу сеянку. А деньги вот, — вытащил из кармана деньги, завернутые в тряпицу, и протянул Ивану. Тот опустил голову на грудь, гонял на скулах желваки. Потом поднял тяжелый взгляд на соседа и сказал:
— Спросить хочу: ты пошто утаил, что в бауле было золото?
— Почему утаил? — задумался Батятин. — Тебя пожалел, не сойти мне с этого места. Лучше, чтобы не знал.
— Лучше? — усмехнулся Иван. — Боялся — украду? Али еще что? А чо ты вздумал меня жалеть-то?
— Эх, Иван Митрич, думаешь, мне не больно? Думаешь, у Луки вместо сердца вилок капусты? Вижу ведь, как живешь, помочь хотел. Давай-ка рассудим по-человечески: ну не все ли тебе едино, что было в бауле? Сказал бы я тебе, что золото, ты бы терзался всю дорогу, покой бы потерял.
— А может, с баулом-то сбежал?
— Не говори так, ради бога, Иван Митрич, и в мыслях такого не было. Кто же ведал, что стрясется такая оказия. Все мы под господом богом ходим. Возьми деньги-то, пригодятся.
— Уходи-ка ты, Лука Самсоныч, подобру-поздорову, пока я хороший.
— Обида в деле не советчик, Иван Митрич. Сочувствую, казнюсь, но не держи на меня камня за пазухой. Дело соседское. Сегодня я тебе, завтра ты мне. Возьми Пеганку да вспаши огород.
— Не надо, Лука Самсоныч, не надо меня подмасливать. Я не злопамятный, но лучше нам с тобой дружбу не водить — волк козлу не товарищ.
После ухода Батятина Глаша прильнула к Ивану и заплакала, он молча гладил ее по голове и удивлялся самому себе, что не выгнал Батятина.
Седельников мечтал съездить в деревню. Один побаивался. Одиночек в окрестных селах встречали неприветливо, враждебно, часто обижали. Одного шуранского мужика избили до полусмерти в Метлино, а лошадь увели. Иван Иванович надеялся, что Совет нарядит еще один обоз, а может, уже снаряжает. Потому направился к Совету разведать обстановку. И наткнулся на Дуката. Какой у них там разговор состоялся, трудно судить. Но Дукат, как водится, моментально воспламенился и упрятал Седельникова в каталажку.
Борис Евгеньевич узнал об этом чуть ли не последним и то потому, что явилась Седельничиха в слезах. Она глотала вместе со слезами слова, и Швейкин не скоро разобрал, что она хочет от него. Когда же понял, то поначалу не поверил. Позвал Ульяну:
— Поищи, пожалуйста, Мыларщикова и Рожкова.
Седельничиху проводил до дверей, заверил, что это недоразумение и с Иваном Иванычем ничего не случится — сейчас же его выпустят. Швейкин хорошо помнил, как Рожков обещал раскатать дом Седельниковых по бревнышку, и потому погрешил на лихого командира красногвардейцев.
Первым появился Мыларщиков. Швейкин спросил:
— Арестован Седельников. Не слышал за что?
— Седельников? — удивился Михаил Иванович. — Понятия не имею.
Рожков влетел в кабинет на всех парах, опустился на табуретку и перевел дыхание. Мыларщиков поинтересовался:
— Медведь за тобой гнался, что ли?
— Коли медведь! Я б ему пулю в лоб и весь сказ. Баба!
— У тебя, вроде, смирная, — усмехнулся Михаил Иванович.
— Моя бы! А то оглашенного Петрована жена. Тут, Борис Евгеньевич, катавасия вышла. Не хотел тебе докучать да придется. На прошлой неделе стреляли мы на Амбаше, по мишеням. Кто из охотников, те тютелька в тютельку бьют. А другие охломоны поначалу зажмурятся, а потом уже давят на спусковой крючок. Того же Шимановскова возьми.
— И что? — спросил Швейкин.
— Ни в зуб ногой! Форсу на десятерых, а бестолковый. Ну, стреляли. Шимановсков в сороку пальнул. Да в нее-то не попал, зато оглашенному Петровану ногу подстрелил. И откуда он тут взялся, ума не приложу. Ясное дело, взвыл благим матом, я ему — рану-то перевязал — так, царапнуло. А вот старуха его теперь мне проходу не дает. Все норовит глаза выцарапать да за чуб потаскать.
— И правильно. Ты ж командир. Ты и в ответе.
— Иди, покомандуй моими охломонами. Кто в лес, кто по дрова. Я глотку надорвал — все порядок навожу.
— Ничего себе новость, — подытожил Швейкин. — А Седельников у тебя сидит?
— В кутузке. С Пановым за компанию.
— С каким еще Пановым?
— Хромоногим Пановым, рыбаком. На базаре пьяный почем зря советскую власть костерил. Вот Дукат его и зацепил.
— А Седельникова за что упрятал?
— Побойся бога, Борис Евгеньевич! Я что, басурман какой — ты и так мне выволочку дал тогда, на всю жизнь запомнил.
— Ладно. В отряде своем порядок наведи, спросим. Перед Петрованом извинись, доктора пошли. А то набедокурить набедокурили, а поправить дело боитесь. Седельникова и Панова выпусти сейчас же!
— А Дукат? Он же в драку полезет!
— Пошли ты его знаешь куда! — посоветовал Мыларщиков.
— Далеко-то не посылай, — улыбнулся Швейкин, — но ко мне пусть непременно зайдет.
Дукат появился вечером. Борис Евгеньевич спросил:
— Ты чем-то недоволен?
— До чего обожаем красивые слова! — покачал головой Дукат. — Распинаемся о революции, кричим о социализме и не видим грязи, которая нас постепенно засасывает.
Борис Евгеньевич отметил про себя, что Юлий Александрович за последнее время сильно похудел. Продолговатое лицо выглядело крайне усталым. Под глазами синева от недосыпания. Невольная жалость шевельнулась в груди у Бориса Евгеньевича. А что? Дукату ведь достается не меньше, а может, больше, чем другим. Должность у него беспокойная — контроль над заводами, контроль над деловым советом, над тем, как выполняются распоряжения Советской власти разными Пузанавыми и ему подобными.
— Поясни, — попросил Швейкин.
— Зачем тебе пояснять? Ты же сам прекрасно видишь! Я понимаю, ты кыштымец, тебе тут все дорого, даже здешние мироеды — это частичка твоего прошлого. Ты еще огольцам бегал в лавку Пузанова покупать леденцы, и у тебя сохранилась к нему невольная оторопь. Потому ты боишься взять его за шиворот, забываешь — он классовый враг. Ты можешь поступить опрометчиво, как поступил сегодня, когда освободил этих контриков — Седельникова и Панова. Соседи, как ни говори, неудобно, что люди скажут. Но ты забываешь — они классовые враги. Революцию стеснительным делать нельзя. Надо железной рукой уничтожать нечисть — и тогда победа будет обеспечена. Слюнтяйством мы ее только погубим.
— Юлий Александрович, ты, конечно, понимаешь, что сказал сильные и несправедливые слова?
— Я за них отвечаю.
— Не сомневаюсь. Но обиды на тебя не держу, хотя повод ты мне дал основательный.
Дукат хотел возразить, но Швейкин остановил его:
— Погоди маленько. Прежде о классовых врагах. Вот Панова поставил рядом с Пузановым. Это все равно что уравнять воробья со стервятником. У Панова ни кола, ни двора. Ни у Пузанова, ни у Лабутина в лакеях не состоит. Костерил советскую власть? Он всегда был невыдержан на язык, ему не раз от бывших хозяев плетка за это доставалась. У Панова что на уме, то и на языке, его воспитывать, а не сажать надо. Кыштымский обыватель в принципе-то молчалив. Он будет на тебя коситься, между собой косточки тебе промывать, а прямо не выскажется. Так вот Панов и высказал обывательские мыслишки. Вслух. Не надо нам с тобой оглядываться на обывателей, но выводы мы делать обязаны. Значит, заволновался обыватель.