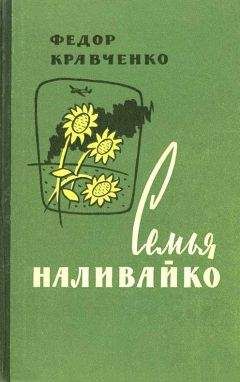— Живем мы как-то не так, Александр Иваныч. Чайку пришел бы попить…
— И от чарочки не откажусь, — с улыбкой: ответил Ворона.
Марья Семеновна заметила, что, когда он улыбается, лицо его становится особенно приятным. «Добродушный хохол, — подумала Марья Семеновна. — Горе сделало его угрюмым, а душа у него, как видно, ласковая. Такой и развеселит, и песню споет, как соловушка. Они, украинцы, все песенники…»
В этот день Марья Семеновна сама стала неузнаваемой: задорно понукала она доярок, собственноручно меняла подстилку под коровами, помогая скотнику; даже что-то напевала себе под нос.
Лицо ее раскраснелось и стало красивее; бронзовые волосы выбились из-под платка. «Смотри, какая, — невольно подумал Ворона. — Вроде даже и ничего… У этой масти своя краса…»
Он с нетерпением ожидал вечера. И уж совсем по-мальчишески обрадовался, когда Марья Семеновна сказала, уходя из коровника:
— Как только Анисим заступит на дежурство, ты и приходи…
Ворона начинал понимать, что с ним происходит: душа хотела отдохнуть, развлечься. Горе легче забудется, если он сумеет разделить его с этой женщиной.
Ворона знал, где она живет, но никогда еще не приходилось бывать у нее. Домик Марьи Семеновны стоял в самом конце ровной улицы, где не было ни одного деревца. За ее деревянным, похожим на скворечник домиком с желтыми резными ставнями зеленел сад. Эвакуированные украинки давно заметили этот уголок и восхищались мудростью покойного мужа Марьи Семеновны, отгородившегося таким способом от холмистой приволжской степи.
Нынче, когда Ворона понял, что при любом исходе войны ему не придется вернуться в Сороки, душа его наполнилась желанием сблизиться с одинокой рыжей женщиной, стать хозяином опрятного домика и сада. Он был в том возрасте, когда человеку бывает совестно употреблять слово «любовь», однако и чистого расчета у него не было. Хотелось иметь близкого человека… Делить с ним все, что еще наполняло жизнь…
Больше всего боялся Ворона, что Марья Семеновна ограничится «чаепитием». Ведь Катерина Петровна, например, и не посмотрела на другого мужчину, с тех пор как ее мужа убили. А была она во сто крат красивее этой рыжей вдовы…
Марья Семеновна ждала гостя. Встретив его на крыльце, она тихо проговорила:
— Вот и хорошо, что пришел. Будем чай пить…
Ворона, подобно многим другим украинцам, не увлекался «чаепитием», но сегодня ему нравилось сидеть за столом, на котором задумчиво шумел маленький, поблескивающий медными боками самовар.
Комната была оклеена обоями. Висевшая над столом керосиновая лампа мягко освещала стены, украшенные многочисленными фотографиями в маленьких разноцветных рамках. Скользнув взглядом по ним, Ворона заметил портрет мужчины в шляпе.
«Муж, — подумал гость. — Однако почему же он в шляпе? Учителем был, что ли?»
Марья Семеновна любовно наполняла кипятком голубые чашки. Самовар все еще шумел; на медный поднос, в сереющий под ним пепел, падали искорки. Удобно расположившись у стола, Ворона пристально смотрел на хозяйку. Теперь, когда она была в одной легкой кофте, фигура ее поражала стройностью. Ей было лет сорок пять, не больше, но в пальто или сером ватнике она казалась неуклюжей старухой. Нынче Ворона видел перед собой довольно еще привлекательную грудастую молодицу.
Он невольно спросил:
— Муж-то у тебя кем был?
— Кооператором, а после — председателем колхоза.
— Председателем?
— Да… Я из его рук все колхозные дела приняла…
Ворона пошутил:
— И вручила их черт знает кому…
— Ну-ну, — с улыбкой упрекнула хозяйка. — Ты в моем доме и слова такого не произноси. Обижусь…
— А ты не обижайся, — немного смутившись, сказал Ворона.
Он украдкой поглядывал на хозяйку, пившую чай с блюдечка. Сам-то он обжигался и дул в чашку, что забавляло Марью Семеновну и вместе с тем тревожило.
— Ты пей, как я… Вот… вот…
Она смеялась, наблюдая за гостем, который и к блюдечку боялся прикоснуться губами. Внезапно она потянулась рукой к его усам:
— Это ж тебе мешает…
И приподняла черный, с упругим завитком, ус.
Он схватил ее руку, судорожно сжал. Марья Семеновна отстранилась и, неодобрительно поглядев на гостя, неожиданно спросила:
— А ты почему беспартийный?
Его ошеломил этот вопрос; покраснев, опустив глаза, он тихо ответил:
— Да как-то не пришлось…
— Может быть, грех какой на душе имеешь?
Он вздохнул:
— Только и греха, что сына бросил на Украине. Вот Сидор Захарыч и дочку и даже зятька прихватил с собой…
— Ну… это ты ни к чему… — перебила его хозяйка. — Ты Сидора Захарыча не трогай, у меня на него свой взгляд.
— Я и не трогаю…
Марья Семеновна без особого стеснения рассматривала его. Ворона понимал это по-своему и старательно крутил усы. Видя, что гость не допивает свой чай, Марья Семеновна спросила:
— Наливкой тебя угостить, что ли?
— От такого добра не откажусь.
Она вынула из-за сундука бутылку с наливкой, наполнила рюмку и ласково сказала:
— Попробуй. Это смородинная. Собственного приготовления.
Он осушил рюмку и облизал губы.
— Ты настоящая хозяйка.
— Может быть, женишься?
Ворона заглянул ей в лицо и расхохотался. Нет, не оттого, что она пошутила, — он вдруг заметил, что и глаза у нее рыжие. Рыжие и озорные. Свет лампы играл в них, как лунный блик на воде.
— Могу, — сказал он наконец, пододвигая свой стул поближе к раскрасневшейся хозяйке.
Она стала серьезной, пожалуй, даже печальной.
— А ты мне не нравишься.
— Да что ты?
Ворона был так растерян, что Марья Семеновна опять развеселилась.
— А что ж ты думаешь? Вот так — пришел, покрутил усы и покорил, да? Нет, Александр Иваныч, я не из таких, да и возраст не тот… А если… если у тебя сердце хорошее, оно поймет меня. Я живую себя в землю не закопаю, но и шлюхой не стану…
— Зачем ты так говоришь? — с досадой перебил ее Ворона.
— Говорю, что думаю. Слушай. Шлюхой не стану… — На глазах ее вдруг заблестели слезы. — Не знаю: вдова я или еще не вдова… Не знаю… Пока война не кончится, другого не приму. Ждать буду. Бывает, что и возвращаются с войны… — Она заметила и огорчение и крайнее удивление на лице гостя. — А ты не падай духом. Дружить с тобой не откажусь. А когда война кончится… и если… если мой не вернется, я с тобой старость коротать буду. Только стань человеком. Вот тебе мое условие: покажи себя на работе, развернись. Да может и так случиться, что ты еще бригадиром, а то и председателем станешь…
— Добре, — сказал он задумчиво, остановив взгляд на кровати, над которой возвышалась покрытая кружевной накидкой горка подушек. — Добре, я себя покажу.
Все же он хотел остаться у нее и сейчас. Марья Семеновна, смеясь, выпроводила его. Он ушел расстроенный, но постепенно успокоился, думая о будущем: «Можно и тут окопаться. Муж вряд ли вернется… А мне и тут хорошо будет… Что ж, Костенька, перегородил ты мне дорогу назад. Останусь. А с врагами твоими я тоже рассчитаюсь. Они еще наплачутся…»
Он возвращался домой окрепнувший, ободренный.
Катерина Петровна весь вечер просидела у себя в комнате, не зажигая света.
Сидор Захарович приказал не беспокоить ее и поручил руководство бригадой Насте Васильевне. Веселая и шумливая Настя притихла, узнав о горе, постигшем Катерину Петровну.
Рано утром она решила навестить Катерину Петровну, не желавшую никого впускать к себе в дом: ей, как заместителю бригадира, надо посоветоваться, чем с утра заняться.
На крыльце дома Настя столкнулась с Вороной. Сдержанно ответив ему на приветствие, Настя постучала в дверь. Послышался слабый голос:
— Кто там?
Настя недружелюбно взглянула на Ворону, подумала: «Тоже пришел голову морочить» — и как-то неуверенно ответила:
— Открой, Катря, это я…
Катерина Петровна молчала. Настя, не дождавшись, пока ей откроют, подумала вслух:
— Добре, завтра зайду, — и ушла.
Не успела она отойти, как дверь медленно приоткрылась, на пороге показалась Катерина Петровна. Не заметив Вороны, она молча посмотрела вслед удалявшейся Насте. У нее словно отнялся язык, и она не нашла в себе сил, чтобы позвать Настю.
Ворона сдержанно кашлянул. Катерина Петровна вздрогнула и обернулась. Увидя Ворону, она устало закрыла глаза и так простояла целую минуту, не шевелясь. Ворона нарочито громко вздохнул:
— Услышал я, Катерина Петровна, какое у тебя горе. Не сердись, что пришел в такую минуту: сердце не выдержало. Оно ж у меня не каменное.
Он снова вздохнул. Катерина Петровна открыла глаза и поглядела на него так, словно удивлялась тому, что он еще не ушел.
— Зайди, — сказала она. — Что ж мы стоим на улице?