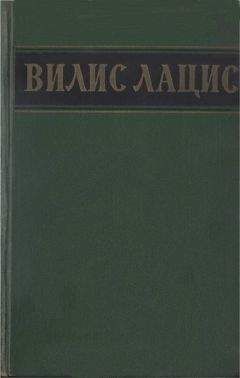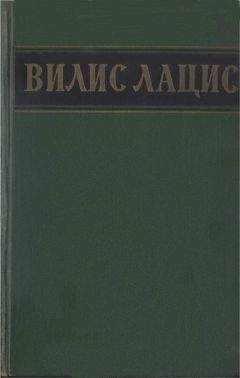Жубур машинально провел рукой по подбородку. «Хорошо, что побрился утром».
— Болеть не болел, но в последнее время мне приходится очень мало спать. По ночам я готовлюсь — хочу с будущей осени возобновить занятия в университете.
— В прошлую субботу мы были у Прамниеков. Не хватало только вас с Силениеком, тогда бы собрались все, кто был у них в тот вечер на даче. Мы всё о вас вспоминали. Прамниек очень обижен, говорит, что вы его совсем забыли. Силениека он тоже ругал за то, что тот давно не показывается… По-моему, он очень хороший человек — Силениек, хотя я его мало знаю. Феликс тоже всегда говорит, что он очень умен и талантлив. Он все собирается затащить его к нам. Кстати, зашли бы и вы когда-нибудь. Мы живем в центре, на Антонинской.
— Благодарю вас, — поклонился Жубур, — ваш муж уже приглашал меня.
— Разве вы встречались с Феликсом? Странно, он мне ничего не говорил.
— Встретились мы совершенно случайно, на улице. Это было… это было в прошлую среду, в Задвинье.
— В среду вечером? — переспросила Мара. Чуть подкрашенные брови удивленно приподнялись. — В среду вечером у него было длиннейшее заседание в правлении.
— Он, помнится, говорил, что идет к какому-то сослуживцу. Может быть, в связи с этим заседанием?
— Возможно. Да это и не так важно в конце концов. — Но на лице ее в течение нескольких минут еще оставалось выражение напряженной мысли.
«Кажется, это мои слова ее расстроили. Почему?» — с недоумением подумал Жубур. Он вдруг понял, что в обществе Мары почувствовал себя спокойнее. Острая, щемящая боль, чувство собственной отверженности, не дававшее ему покоя последние дни, чуть утихло. В ее взгляде, в голосе он ощутил дружеское доверие, какую-то душевную поддержку.
Мара была из тех женщин, чья красота открывается не сразу: на улице, в многолюдном обществе она могла остаться и незамеченной, точно всю свою грацию, всю талантливость своей натуры она оставляла для сцены, для любимых ролей. В обществе она не проявляла той ровной, выработанной веселости, которой отличаются светские люди; она могла вдруг надолго задуматься, не отвечать на вопросы окружающих; с людьми, неприятными ей, держалась иногда с презрительным равнодушием. Редко-редко и лишь для немногих расцветала ее душевная прелесть. Вдруг открывалась глубина хмурых глаз; в ее медлительной речи начинали звучать такие искренние грудные ноты, что становилось тепло на душе.
Одного не мог объяснить Жубур: почему она обратила на него внимание, что означает это дружеское участие? Ведь и тогда, у Прамниеков, она так доверчиво положила руку на его плечо, так странно смотрела на него… «Что может найти во мне такая женщина? Кто я для нее? С мужем она, кажется, счастлива… Жизнь у нее интересная, богатая впечатлениями. Хотя, как знать? Вилде, возможно, человек незаурядный, но особых симпатий, не вызывает… И потом у него, наверное, вечно дела, заседания… Даже такие, о которых жена ничего не знает… Да, со стороны трудно судить…»
Мару действительно тянуло к Жубуру. Увидев его в первый раз, она поразилась какому-то неуловимому сходству его — не то в чертах лица, не то в голосе — с одним человеком, другом ее юности, которого она любила и который погиб при автомобильной катастрофе. Это была старая история, никто о ней уже не вспоминал, да и сама Мара ни с кем об этом не говорила. Она стала известной актрисой, вышла замуж за Феликса Вилде, но первую свою любовь забыть не могла. И вот пришел Жубур и растравил эти дорогие и горькие воспоминания, оживил смутные мечтания ранней юности…
Жубуру она ничего об этом не говорила… Она глядела на него доверчиво-ласковыми глазами и рассказывала — о театре, о новой пьесе, в которой должна играть главную роль, о том, как она трактует характер героини.
— Премьера в субботу. Мне очень хочется, чтобы вы пришли в театр. Очень хочется. После спектакля поедем прямо к нам, отпразднуем новую роль. Гостей совсем немного будет… Прамниеки, конечно, может быть, еще кто-нибудь. Приходите.
Но Жубур и не отказывался. И не потому даже, что почувствовал симпатию к Маре. Еще в самом начале разговора, когда она несколько раз упомянула Силениека, его озарила вдруг одна мысль. Он слушал Мару, отвечал на ее вопросы, а мысль эта не покидала его, обрастала новыми доводами, предположениями. Неужели он в самом деле нашел путь к разрешению загадки? Неужели существует какая-то связь между нею и окружающими Прамниека людьми?
— Благодарю вас за приглашение, я приду, с удовольствием приду, — сказал он. — И раз уж вы напомнили мне о моих обязанностях, я схожу и к Прамниеку. Дайте мне, пожалуйста, его адрес.
— Записывайте. У меня и номер телефона есть.
Ей было приятно оказать ему хоть самую маленькую услугу.
Жубуру пора было уходить, — он решил немедленно отправиться к Прамниеку. Мара еще осталась посидеть в кафе.
Едва успел Жубур выйти за дверь, как к столику Мары подлетел Зандарт.
— Добрый день, добрый день, госпожа Вилде! Давно смотрю на вас, любуюсь, только не хотелось мешать. Вы были так заняты своим партнером. Ха-ха! — обрадовался он своей шутке. — Между прочим, знакомое лицо, где-то я его как будто видел…
— Конечно, видели. Это Карл Жубур. Помните, летом, в день рождения Прамниека?
— Да-да-да!.. Совершенно правильно: Карл Жубур. Кажется, он еще отчаянно ругал немцев. Верно?
— Право, не помню, господин Зандарт.
— Ну, может, я и напутал. Между прочим, госпожа Вилде, а вы сами-то как? Признаете их?
Действуя с помощью одних и тех же, довольно топорных, приемов, Зандарт бросался теперь навстречу каждому знакомому и старательно выведывал его мнение о немцах. Он так усердствовал, что у него каждый день был готов для Эдит список фамилий, помеченных плюсами или минусами. А некоторые фамилии были снабжены даже двумя плюсами или минусами.
Вечером Мара рассказала мужу о встрече с Жубуром.
— Я его пригласила на премьеру и на ужин. Ты не возражаешь? Он такой славный, симпатичный человек…
— И отлично сделала, что пригласила, — с довольным видом ответил Вилде.
— Он сказал, что вы с ним встретились в прошлую среду.
— Да, я не сказал тебе тогда — как-то из головы вылетело.
— Ведь в среду у вас было заседание правления. Ты еще жаловался, что пять часов просидел и у тебя голова разболелась. А сам, оказывается, был где-то в Задвинье.
Вилде слегка закусил нижнюю губу, потом рассмеялся и потянулся обнять Мару.
— Первый раз за все годы брака я узнаю о том, что ты меня ревнуешь. Ты меня просто радуешь!
— Я вовсе не собираюсь ревновать тебя, — уклоняясь от его объятья, сухо ответила Мара. — По кто тебя вынуждал описывать с такими подробностями это мифическое заседание? Мне просто неприятно попадать в глупое положение. Люди начинают думать, что ты скрываешь какие-то похождения, одурачиваешь меня.
— Не волнуйся, Мара, — начал успокаивать ее Вилде. — Я действительно был в Задвинье, был по служебным делам. По каким — сказать сейчас не могу, да это и неважно. Обещаю тебе не подавать больше поводов к подобным недоразумениям. А главное — я твой верный муж, и если хожу на свидания — то только на деловые… — закончил он иронически-торжественным тоном.
6
В углу мастерской топилась железная печка. Стеклянная крыша была запорошена снегом, но солнца здесь было достаточно.
При входе Жубура натурщица спряталась за ширму.
— Можете одеваться! — крикнул ей Прамниек. — Сегодня больше работать не будем.
— Я тебе помешал? — спросил Жубур.
— Нет, ничего… я уже кончал. Ну, присаживайся, грейся, а я пойду попрошу Ольгу дать нам горячего кофе.
Пока натурщица одевалась, разговор у них не клеился.
С удовольствием осматривал Жубур мастерскую художника. «Какое это счастье, — думал он, — когда человек может целиком отдаться творчеству, вложить все свои способности и силы в любимый труд. Художник, настоящий художник отвечает только перед своей совестью, а в конечном счете — перед своим народом, и тогда в его творениях звучит сама жизнь».
И сам Прамниек, в белой, запачканной красками блузе, с трубкой в зубах, с копной густых волос на голове, с напряженно вглядывающимися в каждый предмет глазами, был очень колоритен.
Последнее время он работал над большим полотном. Везде были разбросаны эскизы голов и фигур, наброски композиций. Тут же стояло несколько занавешенных мольбертов поменьше, с неоконченными холстами.
— Пожалуй, мой замысел многим придется не по вкусу, — рассказывал Прамниек. — Я хочу создать — как бы это выразиться — что-то вроде поэмы о труде. Конечно, не о том труде, который является уделом раба и ведет к деградации человека. Пусть уж этот труд восхваляют и проповедуют интеллигентные прихвостни буржуазии, как это практикуется сейчас у нас. Вот уж стараются! Чего только они не делают, чтобы приукрасить безрадостный труд эксплуатируемых масс! Надеются, что он тогда покажется народу более привлекательным, что народ забудет, на кого работает. Мне все это до того осточертело, что вот я решил показать в красках, в динамике фигур, в самой композиции — другой труд, к которому людей не принуждают палкой, не подгоняют жадность и стяжательство… Свободный, творческий труд, который так же необходим человеку, как воздух и пища. И показать его без сентиментальной утрировки, а таким, каким он должен быть…