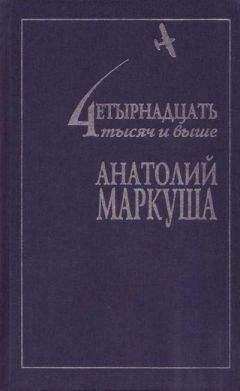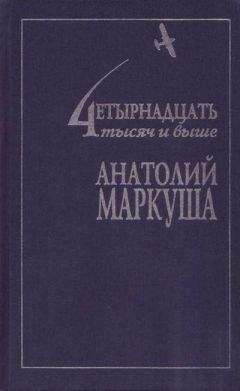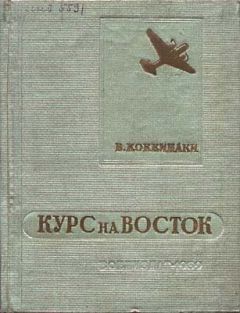Поначалу Галя была крайне оживлена и старательно развлекала меня новостями (будто мы не виделись года три), а потом, неожиданно потускнев, стала говорить что-то, на мой тогдашний взгляд, совершенно несусветное:
— Я знаю, Коля, у тебя ко мне никакого настоящего влечения нет… — Помолчала, наверное, ожидала возражений. Но я так растерялся, что ничего не сказал, не нашелся. — И понятно! Толстая, урод уродом, никакого самолюбия к тому же… — Она опять помолчала. — Но я хочу, чтобы ты знал, Коля, если когда-нибудь и для чего-нибудь я тебе понадоблюсь, только свистни…
— Или ты собака? — спросил я с фальшивым отвратительным изумлением.
— Вот именно! Собака. А что? Собака — друг человека. Ты подумай, Колька, и человеку без собаки плохо, а уж собаке без человека совсем невозможно. Собака без человека озверевает. Ну, согласен — буду за собаку!
Потом мы валялись под кустами персидской сирени. Пахло травой, чем-то еще живым и задорным. Галя развеселилась и смущала меня воспоминаниями о наших фотографических опытах. Я потрепывал мою собаку по загривку… Все было на самой-самой грани, но ничего особого не случилось.
Только часом позже выяснилось: пока мы кувыркались в траве, у меня бесшумно, и, разумеется, бесследно повыкатывались все монетки. А так как крупных купюр не было с самого начала, то в итоге оказалось: нашей общей наличности не хватает даже на два билета метро…
— Поезжай, — сказал я Гале, — поздно. Мама будет ругать.
— А ты? — удивилась Галя.
— «По долинам и по взгорьям, — попытался пропеть я, — шла дивизия вперед, чтобы сбоя взять Приморье…» Ну, и так дальше, я — пешком.
Галя посмотрела на меня, будто впервые увидела, и ничего не сказала. Пересчитала еще раз всю наличность, улыбнулась:
— Слушай, нам всего-то пятачка не хватает. — Тогда билет в метро стоил тридцать копеек. — Сейчас выберу душку военного и попрошу.
— Чего попросишь?
— Пятачок.
— Ты в уме? — запротестовал я. По понятиям, внушенным мне с молодых ногтей, просить считалось абсолютно безнравственным и позорным.
Мещанин считал себя бесконечно выше, благороднее самого лучшего нищего. И неудивительно: своей духовной нищеты мещанин просто не осознавал.
Пока я бесполезно морщил лоб, делая вид, будто стараюсь что-то придумать, найти какой-то выход из положения, Галя подошла к военному со шпалой в петлицах и вежливо сказала:
— Извините, пожалуйста, можно попросить у вас пять копеек? Военный смешно притормозил, резко качнувшись на длинных, обутых в хромовые сапоги ногах, потешно козырнул Гале и осведомился:
— Именно пятачок вам нужен?
— Если можно… нам не хватает…
— Держи! — Он протянул Гале две желтенькие монетки — двух- и трехкопеечную.
Мы ехали домой в метро. Галя, кажется, уже позабыла о своем «подвиге», а я переживал: ну что за мужчина, позволяющий девушке… даме… добывать пятачок? Но тут мысль подло перескочила на другое: но Галя же сама объявила, что хочет быть моей собакой, значит, служить, угождать… Попрошайничать, клянчить, вымогательствовать… сколько, однако, на свете набирается гнуснейших слов! — отвратительно и стыдно. Тем более надо запомнить — твоя собака готова на все.
Мы доехали до площади Маяковского и тихонько пошли по улице Горького, пока не свернули в полутемный переулок. Здесь, перед самым расставанием, сам того не ожидая, я скомандовал:
— К но-ге! — и похлопал себя ладонью по бедру.
Сначала Галя не поняла.
Потом до нее дошло, и она прижалась боком к моему боку, и мы пошли шаг в шаг…
Я видел ее опущенную голову, видел напряженное лицо, ее глаз, следивший за мной.
Свинья! Я свинья! Ведь ликовал.
У подъезда серого, надстроенного дома я небрежно поцеловал Галю, ткнулся губами в ее лицо и поспешно ретировался.
Галино письмо разыскало меня на фронте. На конверте живого места не было — штампы, сопроводительные надписи, чернильные подтеки. Письмо шло ко мне почти год.
Так я узнал: она окончила ускоренный курс медицинского и вместо фронта, как мечтала и рассчитывала, получила назначение в сельскую больничку.
Жаловалась: рутина… жизнь тяжелая… Вокруг одни клюквенные болота. Деревенька маленькая, глухая. Ко всему над головами то и дело самолеты пролетают, гудят, нагоняя тоску и отчаяние.
Тоска как клей…
«Хоть бы узнать, что ты жив, — писала Галя, — я боюсь самолетов и не могу вообразить, как ты, при твоем характере, сможешь удержаться в своей дурацкой авиации. И вообще — на войне…»
Странно: то письмо Гали больно меня задело. Почему-то казалось ужасно обидным.
Что она понимает в авиации, чтобы судить? Кстати, и во мне? И еще меня заинтересовало дважды упомянутое название деревни — Жужа. Определенно, я где-то встречал это странное буквосочетание — не жук, не жаба, а Жу-жа, Жужа…
Неопределенность — наказание. Во всяком случае, для меня. Видел я где-то… голову на отсечение даю, видел: Жужа. Видел? Но если видел, значит, на карте…
Я развернул свою потрепанную полетную пятикилометровку и принялся прочесывать ее — с севера на юг, потом — с запада на восток…
В конце концов, я нашел эту Жужу. Она лежала в восьмидесяти километрах севернее нашего аэродрома, на излучине безымянной речки, в районе болотистом и бездорожном, охваченная широким полукольцом лесного массива… Была там церковь. Дворов в деревне, если верить карте, насчитывалось девяносто.
Далась мне эта Жужа? Что мне в ней? Ну, учились мы с Галей в школе; допустим, между нами что-то намечалось — детское, наивное. Все это — прошлое! Конечно, прошлое. Было… а потом исчезло, рассеялось, растворилось, слиняло, уплыло…
О чем думать? Думать, мечтать, ждать, предполагать, сочинять… врать… заполаскивать мозги… Как много на свете слов.
Для чего столько?..
А тут мне подвернулось слетать в штаб армии. На По-2. Я любил эту безобидную керосинку — сама, можно сказать, летала, только не мешай. И снижаться позволяла, как ни одна другая машина, и притыкаться, если надо, на любом пятачке. Золотой был аэроплан.
На обратном пути из штаба армии пришло мне в голову: если уклониться градусов на тридцать вправо, то, не слишком увеличивая общую дальность полета, вполне можно выскочить на Жужу… Зачем? Ну-у, так, поглядеть…
Врешь! Глядеть там не на что. Себя показать хочешь. Допустим, себя! Так что?! Ничего…
Жужа оказалась еще меньше, чем представлялась по карте. Одна улица. Полуразрушенная церковь. Школа. Административное здание… Крыши тесовые, черные… Оконца крошечные. Словом, чего говорить — сплошная серая унылость, усугубленная диким запустением.
А улица широкая. Проспект. Снизился. Прошел метрах на десяти, разглядел — ровная улица, столбов нет, и проводов нет. Ну и что? Ничего. При необходимости вполне можно приземлиться.
Поглядел на часы. Время позволяет. Проверил остаток горючего… А ветер? Отличный ветер: дымок точно вдоль улицы тянет… не сильно…
Сел. Двигатель, понятно, не выключал.
Прибежали мальчишки.
— Жужа?
— Жужа!
— Кто доктор? Где?
— В район уехала за лекарствами. Муж здесь. — И предложили с охотой скликать мужа.
Заметая следы (предосторожность никогда нелишняя!), я спросил:
— Военные на санитарной машине приезжали? Титаренко, полковник был? (Все это я сымпровизировал по ходу дела.)
— Не было! — хором отозвались ребята.
— Спасибо, ребята! Полечу искать дальше. Счастливо! И улетел.
На сорокаминутное мое опоздание никто в полку не обратил никакого внимания: По-2! Ветром могло сдуть!
А я, как нетрудно догадаться, помалкивал и про себя радовался — с неопределенностью покончено! Жужа — та самая. У Гали — муж. Вопросов никаких нет и быть не может. Но тут я ошибся.
Дней через пять из штаба воздушной армии поступила в полк телефонограмма: «Самовольное отклонение от маршрута, посадку на улице в Жуже оцениваю пятью сутками ареста. Получите подробное объяснение у Абазы…» И подпись — начальник штаба…
Я шел к Носову, не ожидая ничего худого, но стоило только взглянуть на командира, чтобы понять — держись, Колька! Носов выразительно прочитал мне телефонограмму и велел:
— Объясняй.
Конечно, можно было и соврать: отклонился, мол, засомневался, какая деревенька. Присел для уточнения ориентировки «методом опроса местных жителей». Но… не решился: у Носова был совершенно фантастический нюх на малейшую брехню. И вранья он не переносил.
— Виноват, — сказал я, поморгал, потупился и тихо-тихо: — Любовь…
— Этого не хватало! — вздохнул не без притворства Носов. — Ступай, Ромео, отсиживай и имей в виду, бо-о-ольшие неприятности у тебя еще будут от этой, от любви… да при твоих-то замашках. Иди.
Впервые на охоту я попал по чистой случайности. Приятель отца предложил: «Хочешь поглядеть, как зайчишек стреляют?» И я из чистого любопытства согласился.