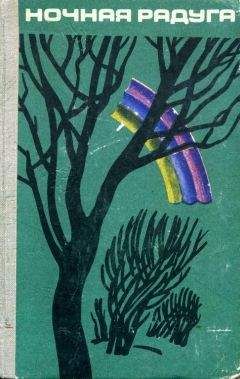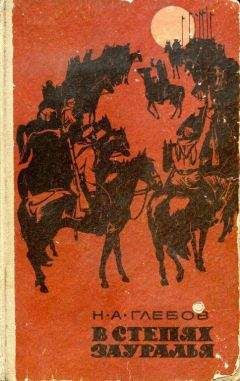МАСТЕРА
Как-то после первых проталин выбрался я в березняк за речкой Барагой. И недалеко от околицы села, но пашней хватило мне лиха досыта. Сполоснул сапоги в лывине и только сел на опушке — услыхал голоса грачей. Небольшая стайка птиц направлялась сюда почему-то со стороны дальних лесов. Вот они заиграли над березами, и тут меня осенило: а что если те самые, Максимовы грачи?..
В тот парной апрельский день дедушка Максим шепотом поманил меня в створку:
— Поди-ко, чо покажу, — надивуешься...
Привел к тополям и ветлам, где грачи разноголосицу тянули, поискал глазами по вершинам:
— Видишь ли?
Ничего особого я не видел. Снуют грачи, поднимают с волглой земли сучки́ и выкладывают в развилках гнезда. Видать, допекает солнце, жаворонки и ручьи подгоняют. «Пора-а, пора-а», — шумят строители, и даже неловко здесь прохлаждаться.
— Эвон парочка любопытная, — подсказал дед. — Приметь-ка за ней. Сами не вьют гнездо, зато во все успевают заглянуть. Тут окладники выправят, там рядок закрепят или щель заладят. Который день приглядываю. У одного-то перо в левом крыле повыдергано.
Сперва в сутолоке я не мог разобраться. Потом обвык и запомнил странную пару. Она и на самом деле вела себя не так, как все. И лишь уследил за ней — дед с тревогой охнул:
— Теперя бить начнут. Турнут-таки их отселева. Турнут...
С грачами, и верно, стряслось что-то неладное. Воздух взорвался от резкого многоротого крика и грозного хлопанья крыл. Многие на полдороге побросали облюбованные веточки для гнезд и тоже ринулись вверх. Началась свалка, точно в грачевник проник хищник. Враз налетели и заахали галки, даже воробьи на черемухе взъерошились, и один храбрый подлетел к нам вплотную, отчаянно затараторил: «ко-го, ко-го?»
Деду как-то удавалось понять смысл потасовки и угадать ее исход. А оно так и вышло: грачи скопом гнали не ястреба, а своих же собратьев, ту странную пару.
Когда вернулся в грачевник привычный настрой, уже никто не перелетал по чужим гнездам.
— Прогнали, — огорчился Максим.
— Ты погляди-ка опосля по лесам, — попросил он. — Непременно грачиная выселка появится. Да не забудь гнездо тщательно осмотреть. Особое по всем статьям должно быть.
...В середине березняка обнаружил я старые гнезда. Немного, зато все сохранилось. Вспомнил наказ деда и захотелось пощупать их своими руками. Кто тут меня увидит? Сбросил телогрейку, разулся и полез на толстую березу.
Гнездо и впрямь на зависть — увито прочно и ладно. Сдюжит от человека и нипочем его не раздернуть. Там, в селе, у грачей к половине зимы ни одного из сотни не остается. Бывает, вместе с яичками или птенцами сдувает на землю. Не гнезда — растрепы... А тут хоть смотрины устраивай.
Вот бы тем поучиться... Впрочем, кто виноват, ежели сами прогнали мастеров. Когда-то у них появятся новые, да и уживутся ли с ними...
Ровные пшеничные валки лентами тянутся угором, словно кто-то холсты расстелил сушить на упругую щетину жнивы. С достоинством покоятся тучные колосья, свешиваются, а до земли не достают. В них «доходит» до налитости зерно. Оно-то и манит сюда, на поле, птиц со всей округи.
Довольно-таки нахально разгуливают по дорожкам-валкам вороны. Склевывают зерно. И вид такой, будто только они и сеяли, и растили хлеба. Тут же летают сороки. Хвост торчком, а сами прыг-скок, прыг-скок. Тоже пшеничкой лакомятся. А разной пернатой мелочи и вовсе не счесть. Овсянки, небось, не из любопытства торчат на валках. Разве только большая синица покрутилась просто так, за компанию, да и шмыгнула обратно в заредевший осинник.
Слышно, как за лесом на дремучем болоте журавли закричали с подголосками. Видать, снимаются на кормежку. Вскоре и они медленно выплыли над березняком.
Осело солнце на западе. Леса потемнели, на поле легли усталые тени. Ушли на отаву журавли, расселись на деревья вороны и сороки. Но не опустели золотистые холстины. Стая тетеревов вылетела навалки. Один дозорную службу несет, а остальные торопливо клюют зерно.
В вечерней тишине донесся писк серых куропаток, а рядышком перепелки зашуршали возле валков. Самые меньшие курочки здесь днюют и ночуют. Тут их дом, тут их столовая.
Уж совсем свечерело на земле. Мягкий ветерок тянет теплый запах хлеба, яблочную свежесть опавшей осиновой листвы. С легким звоном опускаются на валки березовые листья, точно осень награждает большими золотыми медалями пшеничное поле за добрый урожай. А закат полыхает багряным знаменем зеленого неба.
Оттуда, с заката, и ждем последних гостей — диких уток. Вот-вот вывернется табунок-разведчик, а за ним потянутся остальные. «Налетят ли?» — волнуемся мы и всматриваемся вдаль. Первый табунок появляется неожиданно и начинает облет угора. Он то снижается, то взмывает вверх. Потом кряквы опускаются на валок.
Кажется, прошла целая вечность, а на самом деле — минуты. И накатилась утиная волна. Быстро темнеет, и только посвист крыльев над самой головой напомнит о пролетевших птицах. Ошалело крутишь головой, а проку никакого. Мелькнет утка и... нет ее. И уже где-то издали донесется негромкое покрякивание. В темноте неслышно налетит сова-мышатница.
Задремлешь, отходя ко сну, а перед глазами долго-долго будет расстилаться хлебная угорина, птицы на ней, крошечный перепеленок (это в конце-то сентября!), светлая полоска неба и утиные табунки. Припомнится угасающий вечер и единственная нарядная березка. На всех кое-где грустные листики трепещут, а она целехонька, сберегла обновку — узорно-желтый сарафан. Чуть-чуть подол приподняла и решает: идти ли во поле босоногой или остаться на ковровой опушке?
Радостно-сладко захолонет сердце, и почудится, будто березонька осенила твое изголовье. И она зазовет тебя снова в просторные осенние дали.
Глубокая, суровая осень 1941 года. В те дни на полях Подмосковья происходило величайшее сражение — битва за Москву.
...Короткий ноябрьский день погас. К ночи вновь поднялась злая, холодная поземка. Резкие порывы ветра сотрясали оголенные ветви кустов и деревьев, с протяжным завыванием проносились по широкому заснеженному пространству, завивая быстро бегущие воздушные струйки, отчего казалось, что все поле дымится, как после пожара, и занося снегом небольшие темные бугорки — трупы убитых гитлеровцев, остовы искореженных и сожженных немецких танков. С сухим шуршанием в окоп сыпалась колючая снежная крупа.
Вечером, когда наступило недолгое затишье и солдаты получили, наконец, передышку для еды и сна, рядовой Миронов, большой охотник до разных новостей и слухов, сказал, обращаясь к своему соседу, молчаливому и замкнутому бронебойщику Двинянинову:
— Слыхал? В тридцатую роту собак привели. Сказывают, и нам тоже скоро дадут...
Тимофей Двинянинов — солдат старшего возраста, человек положительный и солидный, с крепким крестьянским умом и неторопливыми движениями, которые, однако, в нужную минуту сочетались у него с большой быстротой действий, — отозвался не сразу. По свойственной ему привычке он сначала попытался мысленно прикинуть, какую практическую ценность могло иметь сообщенное Мироновым известие, для чего нужны собаки в окопах (с некоторых пор он все события и факты расценивал только с точки зрения их значения для успешного хода военных действий), и лишь после этого безразлично, даже как бы нехотя, низким басом, слегка охрипшим от постоянного пребывания на морозе, осведомился:
— На что они тут понадобились?
— Танки, слышь, взрывать будут.
— Это как же? Гранатами, что ль? — заинтересовался молоденький боец, сидевший со своим котелком в двух шагах от них.
— Вот этого не знаю, а врать не хочу. Так, бают, обучены.
Двинянинов, не спеша, дочерпал из котелка до дна, обтер усы и, спрятав ложку в мешок, принялся скручивать махорочную папироску.
«Тут люди воюют, а он о собаках...» — равнодушно подумал он, ощущая в себе тяжелую усталость, какая бывает после боя.
Пятый месяц идет война. Пятый месяц советские люди грудью защищают свое отечество. Двинянинов уже потерял счет дням, проведенным в окопе, под постоянным огнем противника, ежеминутно встречаясь со смертью. Не унимаются фрицы, не прекращается ожесточенное сражение. Только ночью немного и передохнешь. Но и ночью непрерывно вспыхивают по горизонту орудийные зарницы и далекий тяжкий гул сотрясает стенки окопов.
Опять целый день лезли танки. За танками бежала орущая пьяная пехота. Ее косили из винтовок, пулеметов, расшвыривали и рвали в клочья взрывами гранат. Волна атакующих то отхлынет, то накатится вновь. Бой продолжался от рассвета до потемок.