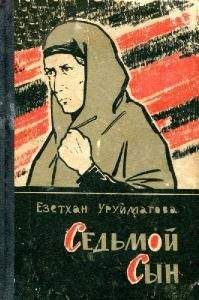Старая одноглазая лошадь отца еле волочит в гору пустую арбу.
— Но-о-о! Чтоб тебя волки сожрали.
Дорога размыта — кочки, ямы. Наконец взбираемся на гору, и остаются позади ложбины и крутые изгибы дорог. Как мучная пыль на мельничных жерновах, на шуршащем золоте кукурузы пороша раннего инея. Далеко на запад, кажется, под самый Эльбрус, убегают зрелые поля, на юг до самых лесов, на север, на восток — все поля, поля… Пригрело солнце. Как детские слезы, капает оттаявший иней с листьев кукурузы.
— Тпру, тпру!
Арба накренилась и, упершись одним колесом в межу, остановилась. Я соскочила с арбы. В ногах щекотная дрожь — пятнадцать верст простояла на коленях, упираясь то в дно арбы, то в стенки корзины. Прихрамывая, ступаю на мокрую зелень. Из-под стеблей пожелтевшей кукурузы она кажется сочной, как весенняя трава. Я глажу ее, опаленную первым морозцем, мне жалко, что придет скоро зима и эта трава умрет под снегом…
— О бог, создавший вселенную, если ты есть, то почему допустил такое? — слышу крик отца.
Он, как помешанный, бегает по полю, разбрасывая ногами кучи стебля. Сбросил папаху, рвет ворот бешмета, обегает полоску с края до края, выкрикивая:
— Почему позволил? Почему не убил его лошадь! Почему не превратил его в каменный столб, когда он воровскими руками брал мою кукурузу, кукурузу бедняка…
У отца украли кукурузу. У него пять дочерей без земельного надела. Сына у него нет.
Отец присел на мокрый стебель и заплакал. Мне страшно видеть плачущего отца… Я много раз видела слезы матери, но отец никогда не плакал. Глядя на него, плачу и я.
— Не плачь, найдем кукурузу, — сурово говорит отец. — Только вот скажи, как ты думаешь, есть бог или нет? — вдруг спросил он и растерянно глянул на меня.
Я пожала плечами.
И отец, будто разозлившись, громко воскликнул:
— Бога нет… не было его… Так и матери скажи… обманщик он, вор…
— Таким и помню его, моего бедного старика, — произнесла она скорбно и подвела меня к стеклянному шкафу… — Попался мне тогда под руку его старый стеганый бешмет.
— Но какая же связь между старым бешметом вашего отца и простреленным кителем Плиева? — спросила я снова.
Но она не ответила на мой вопрос, а продолжала:
— Потом солнце висело посредине необыкновенно синего, синего неба. Отец неподвижно сидел на смятом кукурузном стебле и молчал… О чем он думал? Теперь жалею, что не спросила его… Может, он видел сквозь горькие годы своей жизни тот свет, что озаряет сегодня жизнь его детей и внуков?.. — мечтательно закончила женщина и задумалась.
— Так вы недосказали… — осторожно промолвила я, боясь спугнуть то внутреннее вдохновение, которое овладевает порой человеком и которого мы потом стесняемся.
— Пустым кукурузным стеблем набил отец кузов арбы, — находясь еще в плену воспоминаний, продолжала она. — Лежать в арбе было мягко, отец сидел ко мне спиной. Он не торопил теперь лошадь, и лошадь сходила с дороги…
— Нет бога, нет, доченька, не защитил он бедняка, не заступился… А если бы ты мальчиком была… Верхом бы ездила… Опорой бы стала. Вместо вас пятерых мне б одного сына… Защитил бы, а с войны б со славой пришел…
Потом смущенно и тепло глянув мне в лицо, она тихо сказала:
— Он мечтал всю жизнь о сыне… о герое, а мы, как назло, были девочки.
— А все-таки я не поняла, почему вам китель Плиева напоминает отцовский бешмет?
— Отец мой погиб в 1919 году, когда Шкуро со своим отрядом бродил по Осетии… Отца принесли в дом уже умирающим… Рукав его старого бешмета был прострелен, а грудь промокла от крови… Хоть и не совершил мой отец таких подвигов, как Плиев, но увидев китель Плиева, его простреленный рукав, я вспомнила эту январскую ночь и его последние слова:
— Смотри, дочка, как умирают люди… Запомни, хотя ты и не вырастешь мужчиной, женщиной тебе быть суждено, прожить жизнь без подвигов… Разве это жизнь?..
Мы обе молчали. Я не смела ее больше спрашивать. Только с нежностью и какой-то робостью я смотрела на ее седую голову и на грудь, где горел орден Ленина.
[22]
И снова в своем родном городе, в столице республики — Дзауджикау. Воскресный вечер. Театральная площадь полна народу. Смех, шутки, традиционные приветствия. Старик лет восьмидесяти со старушкой направляются в театр. На ней шелковый платок с длинной бахромой. Эти платки можно увидеть только здесь, их плетут золотые руки осетинок, издавна искусных мастериц. Мне все здесь так знакомо — и ажурные платки, и расшитые пестрые чувяки, и широкополые войлочные шляпы, и стариковские, старательно выглаженные, бешметы, и «рыцарские» поклоны молодежи. И я волнуюсь так, словно после долгой разлуки попала в родной дом, где прошло мое босоногое детство…
В зеленоватом полумраке зрительного зала тепло и уютно. Приглушенный говор, шелест платьев. В первом ряду партера рядом со мной сидят старик в черкеске и старушка в шелковом платке с бахромой. По другую сторону от меня — юноша лет двадцати. На прислоненный к стулу костыль он бережно положил раненую ногу.
Третий звонок. Гаснет свет. Медленно, тяжело скользит бархатный занавес, открывая сцену. В зале наступает тишина. Опираясь на костыль, сосредоточенно подался вперед сосед справа. Упершись подбородком в сморщенную старушечью ладонь, застыла соседка слева. На сцене народный артист Тхапсаев.
Кем был бы он, если бы над его родиной не прошумели ветры Октября? Повторил бы судьбу отцов: тяжелый пот на чужой пашне и бессильная злоба…
А теперь, вот он, наш Отелло. В белом оскале зубов, в сдержанном порыве страсти протягивает он руки к Дездемоне.
Я смотрю на сцену, и воспоминания наплывают на меня. Это было давно, Тхапсаев умел тогда произносить, наверное, только слово «нана».
Жаркий летний день. Заброшенный амбар. Пахнет мышами. Посреди двора разостланы циновки, на них сушится пшеница. «Карауль, чтоб не поклевали куры, чтоб телята не разбросали», — наказывает мать и уходит на мельницу. Но разве усидишь?.. В амбаре за плотно прикрытой дверью репетируем «Двух сестер». В амбаре вместе с нами… мальчики, чужие, не родственники, значит, бывать им с нами нельзя. Упаси боже, узнают отцы! Такого преступления мальчикам не простят, поэтому они стоят поближе к двери, готовые удрать в любую минуту. И вдруг слышится крик матери: «Чтоб я увидела тебя мертвой… где ты? Смотри, что сделали телята с пшеницей…» Дверь амбара распахивается, и на пороге появляется мать. Она застывает, как в столбняке, в синих глазах — ужас, на щеках — пятна злости. «Зачем вы здесь? Что вы делате? Какому богу молитесь, безумные?..»
«Дездемона, голубка моя», — шепчет Отелло. Старушка-соседка, упершись локтями в колени и подавшись вперед, не сводит глаз со сцены.
Чья-то чужая мать. Морщинами щек, тусклым блеском глаз — как ты похожа на мою старенькую маму! Стоя когда-то в дверях амбара, она с гневом и страхом спрашивала меня: «Какому богу молитесь, безумные?»
Смотри, смотри, старенькая мама, хоть на закате дней своих познай настоящее счастье. Вот видишь: мы вышли из темных амбаров на сверкающие сцены. Ради того, чтобы увидеть сегодняшний день, стоило пройти через тысячи смертей, пережить обиды, горечь незаслуженных обвинений, злобный шепот недобрых соседей.
— Почему никто не подскажет, что она невинна? — волнуясь, шепчет моя соседка и тревожно оглядывает зал. В напряженном молчании зала слышится только прерывистый стон Отелло. И в тот момент, когда он душит Дездемону, я вижу слезы на морщинистых щеках моей соседки…
В вестибюле во время антракта в ровном гуле голосов и шелесте платьев ловлю обрывки фраз. «Из оперной студии…» «Наши студенты. Учатся в Москве, приехали на каникулы…» «Отдыхать поедешь в Цей?» «Нет, в Дзауком…»
Маленькая моя Осетия! Ты вошла в семью республик и, как равная, расцвела в большом хороводе под лучами солнца.
Снова звонок. И снова зеленоватый полумрак зала. На сцене отрывки из «Авхардты Хасана» — кусок страшного прошлого. Народная артистка Каргинова. Она в черном платье, пряди ранних седин выбиваются из-под платка. Сколько скорби в ее бледных сомкнутых губах! «На, возьми, — передает она сыну доспехи отца, — и если надежд моих не оправдаешь, струсишь в бою, не сын ты мне тогда… Знай, к этому дню растила тебя, в жертву готовила для мести святой… потому и прижимала к горячей груди, потому и молоком поила своим»…
О, святые слова матери! Недаром сказал Горький, что без матери нет ни поэта, ни героя. С какой неугасимой силой звучит ее голос! Сколько матерей повторяли эти слова, прижимая к своей груди сыновей в годы великой войны, в годы нашей немеркнущей славы. В подвигах этих лет потомки будут черпать отвагу и мужество… От берегов Сочи до ворот Берлина в шеренге знатных витязей сражались вы, верные сыны моего народа: Плиев на коне, Кочиев в рубке корабля, Кесаев под водой… В снегах России с пехотной лопаткой за спиной дрался, как лев, автоматчик Мильдзихов. Ни «Дикой дивизией» прошлого, ни трусостью настоящего никто не упрекнет тебя, моя Осетия! Ты выдержала проверку, и потому ты не обойдена любовью народа…