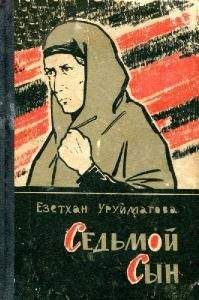Зал гремит аплодисментами, скользит бархат занавеса. На сцене устало улыбается Отелло-Тхапсаев и прижимает цветы к лицу.
А на улице звездная ночь. Здравствуй, мой город! На площади перед театром — гранитный Ленин на пьедестале… Знакомый взлет его руки. У основания памятника — белые розы, фиалки.
И опять слышу я обрывки разговоров. «Домой едешь или остаешься в городе?» «Конечно, еду, кто утром коров подоит, детей накормит? Мне рано надо на ферму». Вглядываюсь: две женщины ждут трамвая. На них нет ни шляп, ни шелковых платьев. Это те простые мамы, по ситцевым платьям которых мы скучали, когда учились в больших городах. Мамы, которые в долгие зимние ночи вяжут нам варежки и носки. Это те простые мамы, чьи руки жнут хлеб, доят коров, ведут трактора, готовят обеды. Мы гордо называем их: «наши колхозницы».
Мы привыкли видеть большие многоэтажные дома, поезда под землей, висячие мосты в горах, зажатые в металл реки, электричество на горных вершинах, апельсины в снегах Омска, пшеницу в песках… А вот это разве не гордость — колхозница-осетинка в театре!.. Давай вспомним, как жила ты раньше: всегда в черном платье, волосы спрятаны под платком. Ты могла пойти только на похороны, да и то только под присмотром свекрови. Ты смотрела на улицу через щель в заборе, жизнь твоя умещалась на ладони. В город тебя везли лишь тогда, когда в смертных муках ты не могла разродиться… А сейчас ты рожаешь в снежной чистоте родильной палаты. Не знахарка, не ворожея сидит у измученного твоего тела. Как в теплом улье, весело живут твои дети в яслях и садах…
Два часа ночи. Брожу по сонному городу. Подходит милиционер, курносый, молоденький русский парень.
— Спать пора, гражданка, — говорит он.
Смеюсь, хвалю город и ночь.
— Вы впервые в нашем городе?
— Да.
— Тогда завтра непременно посмотрите наши парки, музеи. В нашем городе все красивое.
— Да, да, я первый раз в вашем городе…
И я смеюсь, смеюсь от радости. Мне нравится, что этот юноша называет мой город своим…
Ночь. Огни и звезды. Здравствуй, мой город! Здравствуй, молодость наша!..
[23]
«Товарищи пассажиры, подъезжаем к столице нашей Родины, Москве…» Много раз я слышала эти слова, но каждый раз по-новому переживаю их.
В купе нас четверо. Все — мои земляки, осетины.
За два дня пути мы успели сдружиться. Я узнала, что летчик из далекого горного аула Карца в 1941 году окончил с отличием летное училище, на фронт ушел младшим лейтенантом, а пришел с фронта подполковником. Сейчас он возвращается из отпуска.
Молодой человек в кожанке — из села Эльхотово. Он окончил Ленинградский горный институт и теперь едет в Свердловск, как он говорит, «поучиться искусству уральских горняков».
Третий спутник — прославленный звеньевой колхоза «Светоч», Герой Социалистического Труда.
— Я знал вашего отца, — говорит звеньевой, обращаясь к молодому инженеру, — он был близким другом Орджоникидзе. В ночь, когда отряд Шкуро подходил к Владикавказу, погиб ваш отец. Орджоникидзе тогда сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь, — продолжал звеньевой. — Серго говорил, что мы будем жить в такое чудесное время, что сама смерть отступит перед нашим счастьем…
— Смерть… — повторил летчик задумчиво. — Прав был Серго — я был свидетелем того, как смерть отступала перед нами…
Выхожу из купе. За окном — пригороды Москвы.
…А может, действительно не было у моего маленького народа страшного прошлого? Земля? Я вспоминаю зацепившиеся на горных откосах кусочки земли, которые в бурю проваливались в бездны. Люди? Молодые девушки, проданные богатым старикам. Обездоленные сироты и отчаявшиеся вдовы, которые бросались со скал, принимая смерть с радостью, ибо жизнь была страшнее смерти. Ужасы кровной мести, которая пожирала целые фамилии. Какой нитью соединить это страшное прошлое Осетии с Тимирязевской академией, где осетинка защищает диссертацию?..
— Скажите, что вы чувствуете вот сейчас, подъезжая к Москве?.. — раздается за спиной молодой звенящий голос.
Я оглядываюсь. Девушка, натягивая на руку варежку, говорит:
— Я знаю вас, я тоже осетинка… Первый раз в Москве… Я буду учиться в консерватории. Давайте выйдем вместе.
Она прижимается ко мне, и кажется, что я слышу биение ее сердца.
— Я тоже волнуюсь так же, как и вы, всегда волнуюсь, — я беру ее за руку, как ребенка.
…Курский вокзал. Мелькают белые фартуки носильщиков. Ослепляет свет. Алмазной россыпью сверкает снежная Москва.
— Вот она какая! В феврале мне исполняется восемнадцать лет, — и я буду впервые голосовать, — торопливо говорит девушка, будто боится растерять слова.
Я сажаю ее в такси и смотрю вслед…
Скажи, Москва! Каким именем может называть тебя эта девушка с гор, перед которой так светла жизнь и столько надежды впереди?
А я каким тебя назову именем, Москва, я — женщина с седой головой и юным сердцем, которую ты вызвала из мрака, сделала человеком?
[24]
В своих путевых записках по Кавказу Пушкин оставил запись: «Осетинцы — самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе».
Не смею спорить с тобой, Пушкин. — Так было…
Сизый осенний день, жидкая грязь, отливающая глянцем. Группа крестьян с лопатами отгребает от дороги кукурузу, смешанную с грязью. Перевернутая арба, будто в смущении, легла на бок. Поодаль — лошадь с подрезанными подпругами. Она мягко положила голову в грязь — виден только один глаз с фиолетовой поволокой, крупная слеза, большая, холодная, повисла у края глаза… Лошадь уже не дышит, потому на нее никто не обращает внимания. Но мне кажется, что она еще видит, и я кладу ей ладонь на глаз…
Долго жили в памяти осенняя грязь, черный пот на лицах крестьян, мертвый глаз лошади и прозрачная холодная слеза…
Помню вечер. Фигура отца у тлеющего очага. Мать робко ходит по комнате, настороженно поглядывая на отца. Затаив дыхание, молчаливо сидят сестры, будто в доме умирающий больной… За окнами шелест дождя, в комнате звенящая тишина. Пала лошадь у отца, и осталось у него семь дочерей без земельного надела… Мать бесшумно поставила перед отцом фынг с тремя пирогами.
— Помолись, — прошептала она и стала поодаль.
В комнате еще тише, а за окном влажный шорох ночи… Отец встал и, с ненавистью глядя матери в глаза, спросил:
— Помолиться?.. Кому?
— Богу, — шепнула мать, показывая на пироги.
Отец отшвырнул ногой фынг… Я помню ужас материнских глаз, помню, как подбирала она пироги с полу.
Много лет прошло с тех пор, но сохранился в памяти страшно тихий вечер в доме, шорох дождя за окном, мертвый глаз лошади, слезы на глазах отца, страх и отчаяние в семье…
Сколько людей моего поколения могли б рассказать подобные случаи из своей жизни… Если собрать вместе все эти воспоминания, то получилась бы из них большая-пребольшая книга, которую можно было б назвать крестьянской судьбой.
Теперь, когда я смотрю на шагающий пионерский отряд (не скрываю, я гляжу с завистью), то думаю: «Счастливое племя! Ты не видело узких полосок земли, на которых, как проклятье, лежала судьба отцов. Счастливые, вы не видели живого городового, вы не знаете, что значит стоять на коленях на кукурузных зернах за то, что не сумел рассказать попу, во сколько дней господь сотворил мир…
Вы и представить не можете себе такого случая, чтоб на уроке учитель пересадил вас, говоря: — Ваши фамилии — кровники, вам нельзя сидеть рядом.
Вы не поймете, если рассказать вам, что, встречаясь в смертной вражде, косились друг на друга осетин и казак, не желая уступить друг другу дорогу. Преданиями стали для вас рассказы старших о том, как продавали молодых красивых девушек богатым старикам.
Разве можете вы понять, почему бросилась молодая женщина с горного откоса в бездну, навстречу плывущим туманам… Когда рассказывают вам об этом, вы недоуменно упрекаете отцов и матерей в безволье… Но нет, за этот пунцовый галстук, за ваше счастье всходило на виселицу много, много людей… Мой юный друг, преклони голову перед памятью тех, кто пронес мечту о человеческом счастье через века…
Пройдут годы… Ты станешь взрослым человеком и не поверишь старым учебникам географии. Исчезнут пограничные столбы, сотрутся кордоны государств, воздушные и сухопутные пути пройдут от городов к городам, и вы, счастливые, разговаривая на разных языках, будете понимать друг друга.
И необычайными и дикими покажутся вам распри предков»…
Не удивляйся, читатель, моей исповеди: хочется мне поделиться своим счастьем с нашим Пушкиным. Ведь это он своими словами «…взойдет она, заря пленительного счастья» предсказал и мою судьбу.
Да, Пушкин, страшной была судьба той Осетии, которую ты видел… Но если б теперь ты мог промчаться по дорогам моей Осетии…