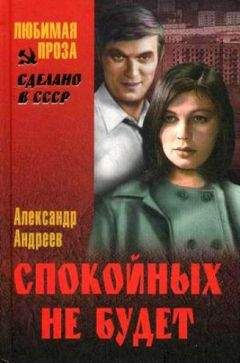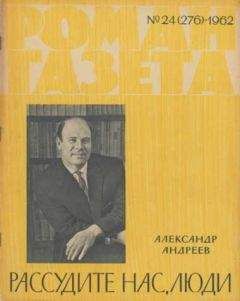— Это для нас, товарищи, сигнал: пора по домам.
Елена, как гостеприимная хозяйка, попыталась удержать нас:
— Время еще не позднее, посидите...
— Спасибо. Оставим ваше приглашение про запас.— Ручьев оделся.— Проталинка, разве ты не идешь с нами?
— Нет,— ответила Катя.— Я здесь заночую.— Она тронула меня за локоть и сказала вполголоса: — Алеша, я на тебя не сержусь. Ты поступил правильно, я тебе все простила.
Мы вышли на улицу. Мир стыл в темноте, в тишине, объятый стужей. Звезды закутались в сизые пуховые платки тумана, робея выглянуть, загореться. Деревья как бы сомкнулись для теплоты.
В палатке все уже спали, закрывшись одеялами с головой. Дрова в печке догорали, и я подбросил в нее поленьев. На столе едва теплилась коптилка. Леня Аксенов, положив руки на стол, уткнулся в них лбом и спал. Возле него лежали учебники, тетради, листки бумаги.
Ручьев шепнул мне:
— Не буди, пускай поспит...— Он стащил с ног унты, разделся и лег, накрыв себя меховой курткой, а поверх нее одеялом. Я пододвинулся к столу. Взгляд мой упал на листок, лежавший рядом с коптилкой. Это было письмо, и глаза мои невольно пробежали по строчкам, ровным, буковка к буковке:
«Мамочка, здравствуй, моя родная! Пишу я тебе среди ночи — дежурю у печки, чтобы она не потухла. Говорю тебе сразу, чтобы ты не тревожилась: живу я, мама, хорошо. Работа у меня не тяжелая, моих сил на нее хватает. Люди, с которыми я живу, все очень хорошие, простые. Они меня все любят, помогают во всем. И питание у нас хорошее, много мяса, много разных фруктов — ведь здесь тайга, большая стройка, и сюда присылают все в первую очередь. Я, мама, зря времени не теряю, готовлюсь. Осенью еще раз попробую поступить в институт. А тебя, мама, я прошу об одном, нет, я тебе приказываю: не ходи ни к кому убирать квартиры, мыть полы или стирать, хватит тебе одной работы в котельной. Я буду присылать тебе все деньги, какие заработаю здесь, тратить их тут некуда. Пожалуйста, мамочка! И Наташку одевай получше; она ведь девочка, чтобы не хуже других была одета... Я думаю, мама, копить деньги на квартиру, может быть, удастся выползти из нашего подвала, если к тому времени не дадут тебе новую... Мама, я ужасно соскучился по тебе и по Наташке. Я очень тебя люблю, мама, сил моих нет!.. Но... прочь сентиментальность! Она расслабляет волю к победе. Позвольте Вам, герцогиня, пожелать доброй ночи. Меня ждут дела государства! Ваш сын Леонид...»
Я разбудил его:
— Леня, ложись на кровать. Я посижу у печки, моя очередь.
Он проснулся и, не раскрывая глаз, стащил с ног валенки, повалился на постель, подтянув колени к подбородку, и накрылся одеялом с головой. Я собрал его тетради, книги, письмо, сложил все это в стопочку. Потом сел к печке, один среди спящих. В сущности, всем время от времени свойственно чувство одиночества — в большей или меньшей степени. Одинок Леня, когда он остается наедине с самим собой — вдали от матери, от сестренки. Наверняка одинока Женя, находясь в своей комнате, одна, со своими чувствами и мыслями. Я, пожалуй, чаще всего бываю одиноким. Чувство одиночества укрепляет во мне веру в людей, во что-то высокое, к чему я — пусть неосознанно — стремлюсь, как все люди. Оно очищает душу от накипи, от зла, от несвойственных человеческому духу инстинктов, ибо оно мудро...
ЖЕНЯ. Занятия окончились поздно, я почувствовала утомление. Всегда с приближением весны я заметно уставала, точно на плечи мне клали тяжкий груз и я покорно несла его. И вообще, я как-то притихла, погрустнела, и реснички на глазах уныло повисли и уже не взлетали, загнутые, дерзко и озорно. Озорство просыпалось лишь изредка, вихревыми вспышками.
Это озорство звенело во мне счастьем непокорности, а в руки вкладывало меч, которым я разила направо и налево,— мысли вырывались, подобно молниям, острые и беспощадные, и ребята удивлялись, наблюдая за мной, побаивались меткого словца, брошенного небрежно, со смешком. Но вихри проносились мимо, все реже захватывая меня, и молнии не сверкали. Я как будто угасала. Хотя и не теряла надежды, я ждала «эпоху возрождения», упорно веря: все прежнее перегорит, и начнется настоящее мое обновление...
Сейчас же во мне одно лишь ощущение усталости. Быстро доберусь до дома, решила я, и лягу в постель. Я сразу затосковала, подумав о своей постели, теплой, чистой, святой. Я отказалась идти с Эльвирой Защаблиной даже до метро. Она и в веселые-то минуты раздражала своим пристрастием к моде, к тряпкам, к женихам. Милая Эльвира, мне бы твои заботы! Это ужасно, когда человек беспокоится только о своем благополучии, не позволяя себе даже подумать о том, что делается в сердце другого человека.
Но Эльвира не могла отпустить меня «безнаказанно». Уже в дверях она догнала меня, подхватила под руку, задержав:
— Я тебя провожу.
Дорогу нам преградил человек. Я подняла глаза и чуть не вскрикнула от внезапности, от испуга: перед нами, разбросив руки, стоял и улыбался Гриня Названов. Меховая шапка с опущенными наушниками сдвинута со лба на затылок, пальто расстегнуто, свисали концы шарфа и галстук, выбившийся из-за бортов пиджака; казалось, что он был немножко навеселе.
— Занятия ваши затянулись сегодня.— Он сощурено вглядывался в меня.— Долго заставляете себя ждать.
— Я и не подозревала, что удостоена такой чести,— ответила я.— Разве я просила вас ждать?
— Иногда это делается без просьб. — Гриня показал в медленной улыбке ровные белые зубы.— Могу я остаться с вами наедине?
Эльвира незаметно щипнула мне локоть.
— Теперь понятно, почему ты в прошлый раз отказалась от моего предложения. Желаю успеха, Женечка. До завтра! — И шепнула на ухо: — Не упускай...— Отдалившись, оглянулась с завистью, погрозила мне пальцем и побежала, наверняка подавляя в себе ревность.
— Можно мне проводить вас до дома? — спросил Названов.
— Проводите.— По легким рывкам ветра я чувствовала приближение вихря, сейчас он налетит и закрутит. У меня заколотилось сердце — кто-то грубо сжимал его и отпускал, сжимал и отпускал. Я на минуту закрыла глаза и ощутила, как дрожат ресницы, они загибались — от дерзости. Гриня осторожно взял меня под локоток. Он, должно быть, подумал, что своим неожиданным появлением привел меня в замешательство.
— Идемте,— сказал он.
Мы тихо двинулись к Красным воротам. Некоторое время молчали. Сваленный с крыш снег лежал на тротуарах ворохами, огороженный, и его приходилось обходить по мостовой. Гриня остерегал меня от встречных машин. Днем светило солнце, пела мартовская капель, к вечеру же становилось все свежее, капли падали в лужицы со щелканьем пистонов. Коротенький промежуток, отделявший день от вечера, был заполнен нежным сиреневым туманом сумерек, город потонул в них, четкие черты его расплылись, помягчели, шум проносящихся машин приглушался. Я поглядела на Гриню.
— Какая необходимость толкнула вас на столь несвойственный для вашего характера шаг? — спросила я.— Часто ли вы предпринимаете такие шаги?
— В моей жизни это первый случай,— ответил он с небрежной искренностью.— Боюсь, не повлек бы он за собой и последующие. Можете ли вы, Женя, говорить со мной без обычной вашей иронии, серьезно?
— А не скучно будет?
Лицо его изменилось, оно выражало и тоску, и боль, и мольбу. Я еще не видела его таким.
— Хорошо,— быстро согласилась я,— будем говорить так, как вам хочется.
— Вы можете мне поверить? — спросил он.
— Смотря по тому, что вы скажете... Вообще-то я, к сожалению, человек доверчивый. Пожалуй, даже излишне доверчивый. Я слушаю вас.
Названов остановился, и я, задержавшись, обернулась к нему.
— Вы замечаете, что я тихо схожу с ума?
Я внимательно поглядела на него.
— Нет, не замечаю.
— А между тем это так.
— Вы же собирались говорить серьезно.
Мы пошли по Садовому кольцу, в сторону Колхозной площади. Зажглись фонари во всю длину улицы, и дома как бы всплыли из сумеречной мглы.
— С тех пор как я вас увидел, я навсегда расстался со своим покоем. После первой встречи — помните, у Вадима в день его рождения? — я просто думал о вас. Вы являлись перед моими глазами в самую, казалось бы, неподходящую минуту — во время работы, во время заседаний. Я видел вас совершенно отчетливо, слышал ваш голос так явственно, что закрывал уши ладонями.
— Надеюсь, люди, окружавшие вас, не осудили меня за мою навязчивость?
Гриня поморщился досадливо:
— Не надо, Женя... А после второй нашей встречи у Вадима, новогодней, я буквально не нахожу себе места. Я с ума схожу...
— Послушайте, Гриня,— извините, что я вас так называю, не знаю вашего отчества,— разве вы не чувствуете сами, что говорите банальности. И слушать их мне, честное слово, не доставляет удовольствия. Скучно это. Мне помнится, вы умели говорить так, что голова шла кругом.