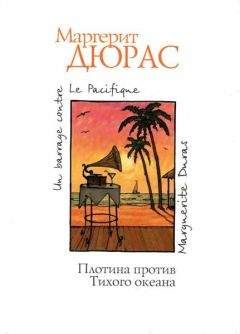Стоит ли, однако, говорить, что ни костюмов, ни часов, ни сигарет у нас не было.
Обычное человеческое желание чем-то гордиться было очень сильно в нас. Мы гордились несчастьями, которые свалились на нас, знанием жизни. Но, может, больше всего я гордился тем, что мог полпайки поменять на табак. Пустить жизнь дымом!
Непривязанность к вещам мы считали едва ли не главным уроком, который эта жизнь нам дала.
Хвастовство этой непривязанностью принимало формы дикие, амбиционные. Я, например, в вагоне, которым американцы перевезли нас в нашу демаркационную зону, бросил свое единственное одеяло, за что был наказан множеством ночей на голом полу или на одеяле Костика.
Костик не осудил меня за эту вспышку, которую и объяснить-то по-настоящему нельзя. Ведь трудно понять, почему собственное одеяло топчут ногой и произносят: «Катись, откуда приехало!» Готовность к такой вспышке или способность ее понять была во многих из нас. Тут, повторяю, надо учесть, что речь шла не о вещах вообще, а о непривязанности к единственной вещи. По поговорке, к единственной рубашке, которую надо снять и отдать другу. Вот до какого состояния мы считали себя обязанными довести и, естественно, довести не могли. Это и давало редкие, дикие и не оправданные никакой целесообразностью вспышки.
В отсутствии целесообразности и был их блатной смысл. И в хлебе, обмененном на табак, тоже было что-то блатное. Жизнь во мне едва тлеет? Так я могу искурить ее сигаретой! Ведь главное блатное хвастовство — хвастовство непривязанностью к жизни.
В лагере естественно было бы бросить или хотя бы не начинать курить. Порвать, по крайней мере, с этой ложной зависимостью. Никто не бросал! Отказываться от табака я начал после войны. И все сокрушался — табачный дым перестал доставлять то поразительное удовольствие, которое я получал от него в лагере. Это была разница между целой сигаретой и «бычком».
У медиков могут найтись и другие объяснения того, почему истощенные люди так тянулись к никотину. «Вы психологизируете, — мог бы сказать мне врач, — а все дело в химии изнуренного организма». Мне же кажется, что химии мало, чтобы объяснить, почему самой стойкой валютой тех дней были сигареты и почему восторг и страх бессмысленного поступка был для нас в те дни привлекателен.
Какой же была та жизнь и какими в ней мы были сами, если белая сигаретная бумага вызывала у нас счастливые предчувствия, а цветом самого счастья был табак!
Когда пришли американцы, мы, конечно, захотели освободиться от наших каторжных лохмотьев. Но не переставали хвастать своей непривязанностью к вещам. Напротив, только теперь у нас для этого появилась какая-то реальная возможность. Однако американцы снабжали нас едой, а не одеждой. Не снабжали и табаком. Меновую стоимость своих сигарет они поняли очень скоро. А сигареты, которые мы растащили с эсэсовских складов, быстро кончились. Добыть одежду и что-либо для обмена на сигареты можно было только у немцев. Но еда, одежда, часы не интересовали американцев. Они покупали оружие. Мы об этом узнали не сразу. Пистолет — вещь тайная. Ее не покажешь тому, кто, по нашим представлениям, должен его у нас отобрать. Понятно, тайна эта лагерная. Мы знали тех, у кого есть оружие, и догадывались о тех, у кого оно может быть. И были встревожены и удивлены, когда узнали, что Сашка Эссенский продал американцу пистолет. Лагерной тайне был нанесен ущерб. К тому же было не очень понятно, зачем солдату, у которого есть казенное оружие, еще и собственный пистолет.
Однако постепенно все разъяснилось. Алик объяснил, что у солдата коммерческий интерес. Сигареты входят в армейский паек, а хороший бельгийский пистолет в Штатах можно продать. Сколько это будет стоить? На эти деньги можно прожить недели две. Алик говорил по-русски, а коммерсант кивал, словно соглашаясь с каждым словом. Многих американцев мы уже знали в лицо и по именам, а этого заметили впервые. У него было темноватое лицо мастерового. Будто он не только торговал пистолетами, но еще и починял и смазывал их.
Чем-то он был похож на немца парикмахера, который в вуппертальской тюрьме дал мне за хлеб ватные сигареты. И еще на Леву-кранка. Все томятся по дому, празднуют неожиданную безопасность и свободное время, говорят о том, что было, и уверяют друг друга, что не допустят этого вновь, а он ни на минуту не упускает своих целей. Из-за этого его вначале и не замечают. Но дом далеко, и наступает момент, когда такого человека не заметить нельзя. В этот момент почему-то чувствуешь себя дураком. Будто тебе вот-вот скажут: «Своя голова есть?»
Как бы то ни было, первый пистолет был продан. Вместе с этим обнаружилось, что американцы сочувственно относятся и к нашим пистолетам, и к тому, для чего мы их добываем.
Мы это помнили, когда шли ночью из кранкенхауза. Но понимали: прикажет комендант, и нас будут ловить. Раза два видели свет фар патрульной машины. Она петляла по коротким городским улочкам, а потом пошла по серпантину в гору, и свет ее прожекторов некоторое время мелькал среди деревьев.
— В лагерь пошла, — сказал Ванюша. — Поодиночке легче. И в лагерь не сразу идти. Пересидеть где-то часов до десяти.
У меня сердце сжалось, когда я представил себя одного на этих улицах или в лесу. Ванюше не ответили. Потом Николай сказал:
— Больше прошли, меньше осталось.
Я видел, Ванюшу это не убедило. Он посматривал по сторонам, словно готовился от нас уйти, но вновь об этом не заговаривал.
На гору мы поднялись без помех. До утра сидели в здании аппаратной взорванной радиостанции. Бетонное здание напоминало дот. Оно уцелело, несмотря на взрыв, такие толстые у него были стены. Из лагеря сюда ходили как в тир. Внутри поднимали стрельбу, пули с визгом рикошетировали от каких-то медных приборов, а снаружи ничего не было слышно. Бетонные стены и толстая металлическая дверь не пропускали звуков. Сейчас сидели тихо. К утру Николай затомился.
— Пойду разведаю.
Когда дверь за ним закрылась, Ванюша усмехнулся.
— По Марусе соскучился.
И правда, минут через двадцать Николай вернулся с женой.
— Тихо, — сказал он. — И ночью шума не было.
— Я всю ночь прислушивалась, — сказала Маруся, — никакого шума не было.
По возбужденному припухшем лицу ее было видно, что она гордится ожиданием, выпавшим на ее долю, и тем, что Николай привел ее сюда.
— Хозяину дома, — сказал Николай, — не очень-то и хотелось, чтобы нас поймали. Доктора Леера — или кто у него в подвале прятался? — тоже вытянули бы на белый свет.
Он вытащил из кармана два блестящих предмета, при виде которых мне сразу стало нехорошо.
— Я же говорил, забудешь, — сказал он, протягивая мне губные гармоники. — Смело на них играй, никто за ними сюда не придет.
Это был не единственный мой ночной трофей. У немца, которого мы приняли за доктора Леера, Ванюша вырвал-таки пиджак. Забрал и брюки. И все отдал мне, когда мы возвращались в лагерь.
— Ты первый немца увидел, — сказал мне Ванюша.
Пиджак я сразу же надел. Он висел на мне как халат. Но это только чуть уменьшало мою радость. Когда рассвело, на пиджаке и брюках рассмотрели ржавые пятна. Это была Ванюшина кровь. Пиджак и брюки он тянул порезанной рукой.
— Холодной водой замоешь, — советовал Ванюша. — Носи, не беспокойся.
Я и не беспокоился. Вопрос о таких трофеях не казался мне тогда щекотливым. Беспокоило то, что я не решился выстрелить в этого подвального немца, доктор Леер он или нет.
С начала войны все ощутили в воздухе добавочное давление. Я видел убитых бомбежкой, присыпанный песком асфальт в том месте, где они лежали. Видел беженцев, застреленных прямо в машине, и уже во мне самом усилилось давление и пережало какой-то важный сосуд. С каждым днем этих пережатых сосудов становилось все больше.
В конце концов, смерть стала постоянным измерением. Если вас было двое, она была третьей. Четверо — пятой. Десятеро — одиннадцатой. Если ты был один, она была второй. Она всегда была тут. Началось это даже не в лагере, а когда немцы вошли в наш город. Это было в их приказах, объявлениях, которые всегда кончались одинаково: за неявку на регистрацию, противодействие, саботаж; тем, кто помогает раненым красноармейцам, прячет евреев, укрывает еврейское имущество, расстрел, расстрел, расстрел…
С этим я засыпал, а просыпался, вспоминал о пайке, о работе, но непременно и об этом. Я помнил, как немец солдат праздно застрелил собаку и она выла, кусая ударенное пулей место. Смерть была беспричинной. Причинами от нее нельзя было отгородиться: это я сделаю, а этого не сделаю и останусь жив.
Растворенная в воздухе, она была неотступной, привязывала к себе мысль.
Она была в черном цвете эсэсовских мундиров, в их петлицах, в немецких воинских и государственных эмблемах, в кокардах, изображающих череп и скрещенные кости. Чтобы не забыли, вам непрерывно напоминали о ней.