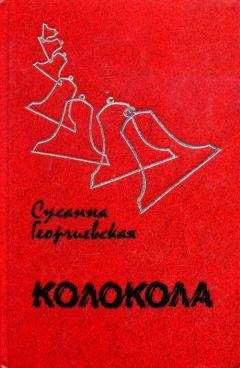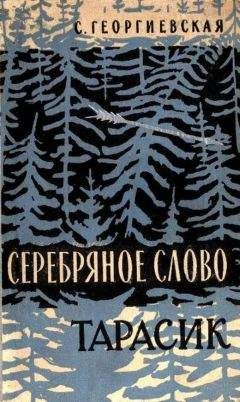— Жанна, — выходя в коридор, раздумчиво и тихо сказала Кира, — я вам хочу сказать одну очень важную вещь. Здесь, на острове, мой жених. Он — солдат... Но ведь не могу же я все время в гостинице... Это очень дорого, верно?
— Верно. Разве можно гостиница для молодой девочка? Нехорошо. Надо дом. Надо устроиться на работа.
— Жанна, у меня пропуск всего на одну неделю.
— Будет пропуск. А жить — у меня... Мой внук — он тоже солдат. А вдруг он тоже имеет большой красивый любовь? «Дружба, дружба» — ведь так теперь говорят девочки? Слово «любовь» не модно... и не модно длинные волосы. Правильно я говорю, милый Кири — дочка мсье мальяр?..
— Вот эта... комната. Ваша. Для вас... Хорошо?
— Еще бы! Ох, Жанна!..
Странный остров... Старинный очаг и здесь занимает чуть не полкомнаты. Он такой же, как и в гостинице. Широкий, низкий, голубоватый. Но у этой печки небольшой выступ: не то печка, не то камин. На ее изразцах тончайшие трещины... Трещины времени. И красивые, выгоревшие от времени и огня рисунки: корабль с розоватыми парусами, мельница, дом...
— О да, я знай, это очень красивый печка, — улыбаясь говорит Жанна. — Посмотрите, Кири, вот Лайна. Вы не слыхали про нашу Лайну!.. Кири, вам одна или две подушка?
...На большом изразце как бы прочитывается голова женщины — молодое улыбающееся лицо, размытое временем. Глаза ее полузакрыты. На мягко очерченном подбородке — глубокая вмятина: тончайшие волосы, как бы сплошь состоящие из царапин, венчает крошечная корона.
— Кири, вы ужинали?
— Как у вас хорошо, Жанна!
— Ну нет, это очень старинный дом. А печки на самом деле красивы, их сделал, должно быть, такой же бравый майстер, как ваш отец. В новых квартирах белый печка и заводской кафель, а это ручной работа... В те времена, когда майстер-художник жил на земля, на свете было меньше людей... Мой внук тоже нравится этот красивый печка. Он говорит: когда нам новый квартира дадут, мы, бабушка, этот старый печка возьмем с собой, разве можно рушить работу такого майстер!..
Кирин сонный корабль плывет сквозь мглу ночи, развеваются его паруса. На подушке — голова Киры с тщательно промытыми волосами. Голова у Киры в бумажных рожках. Они называются «бигуди». Накрутить бигуди помогла ей Жанна.
— Ай, ай, ай, как ты изменилась, Кира!
— Все это вышло из-за волос. Дурацкая стрижка, верно?
— Ха-ха-ха! Ты разве Самсон? Разве сила твоя в волосах?
— Чего ты мелешь? Какой Самсон?
— Я — фея, — ответила Лайна. — Фея, а не кофейная мельница. Я не мелю. Я — звеню... Итак, ты в нем искала силу сопротивления. И ты нашла ее... Твой любимый — маньяк.
— Как ты смеешь так о нем?! Какое еще такое сопротивление?.. И маньяк — это Гитлер.
— А, Кира, со всеми вами так трудно сделалось говорить! Вы не бойтесь фей! Хорошо. Я назову его «устремленный». Стрела! Посмотри — вот она прорезает воздух... Когда я ходила по этой земле, еще жили-были на свете стрелы и лошади.
— Лайна, существительного «устремленный» — нету! Не существует.
— До чего ты мне надоела, девочка. Я — фея. Грамматика — не отчизна фей.
Стало тихо.
— Лайна, мне страшно. Не засыпай.
— Кира, с той самой поры, как я обернулась камнем, я никогда не сплю.
— Лайна, скажи, «устремленные» — это люди высокой жертвенной совести?
— Может быть, может быть... Но ведь страсти — они бессовестны. Удивительный век — век, когда совершенно забыли о феях! И мало думают о любви. Всех вас занимают вопросы совести. Кира, когда на земле еще жили феи, люди пели песни о доблести и любви. А теперь вы поете о труде и войне. Но самые ваши любимые песни и сказки — о совести.
— А ведь я — красивая, Лайна? Верно?
— Девочка, разве любят самых красивых? Красота — великая сила, не спорю, ведь она дает человеку уверенность, поэтому красивый, случается, бывает и сильным...
— Лайна! Может, это плохо — любить? А?.. Валяй говори правду!
— Валяют валенки, девочка. Я — фея, я не могу «валять». Я звеню. Любить — не плохо, любить хорошо. Но любящий не бывает силен. Он — уязвим. А в жизни действует право сильного, а не право правого.
...Звякнула дверца печи. На пол упали поленья. Присев на корточки, Жанна принялась разводить огонь.
— Лайна, ты здесь?
— Помолчи! Разве не понимаешь — меня затопили... Дай огню разгореться...
(И в сумерках занимающегося дня блеснула крошечная серебряная корона.)
— Лайна, ты уже разгорелась?
— Да.
— Знаешь ли, я была еще совсем маленькой. И вот наш папа вдруг захотел уйти, оставить маму и нас. Он ушел. Мама сидела на табуретке и держала на руках Кешку. Она не плакала. Плакал папа. Я сказала: «Папа!» Он не ответил и начал спускаться с лестницы. Я — за ним. Я кричала: «Папа!» Он остановился и поднял меня. Я была очень маленького росточка, мне было четыре года. Я обняла папу, я уперлась в его щеку открытым, плачущим ртом.
Он сказал: «Осторожно, дочка, ты же меня задушишь». И повернул назад со своим чемоданом. Я помогала ему нести чемодан, а он мне сказал: «Не путайся под ногами».
Потом, когда я сделалась старше, папа рассказывал, что любил балерину, которая скакала в цирке на лошади. Она была очень красивой, говорил папа.
— Кири, вставайте! Раш-раш. Уже восемь утра.
— Доброе утро, Жанна. Какая странная у вас печка! Всю ночь ужасно громко гудела тяга и звякала дверка.
— Да что вы, Кири, я только что растопила ее. Кто ж топит на ночь? Спать будет плохо. Жарко... Со вчерашний вечер до самый утра я не подходила к печи...
«Дорогой папа!
Ты получишь мою телеграмму из Лауренса и постановишь, что я завралась. Однако, как это ни удивительно и ни странно, в Лауренсе на самом деле сгорел университет. (Вас небось пригласят на восстановление.) Другое дело, что я и не собиралась держать экзамены и соврала тебе на корню — тогда еще, когда ехала в Лауренс. (Мне нужно было попасть в Санамюндэ. Ловко?)
Сева Костырик отчислен из института по милости твоей дочери, ему не дали возможности защитить диплом. Его отчислили, а потом призвали и отправили на острова. Что хочешь, то про меня и думай! Но видишь ли, отец, я не только перед Севой без вины виновата, а еще и люблю его. Ничего не поделаешь! Вот. В таком духе, в таком разрезе. Люблю.
Речь, однако, не обо мне. А о нем. Свяжись с Костыриками. Не ради себя и не ради меня, а ради истины. Д о б е й с я восстановления Севы. Ты у меня толковый, я знаю, ты все сделаешь правильно. (А я бестолковая — не в тебя.) Была толковой, и вдруг — любовь. Меня сорвало со всех катушек. Я еще дома хотела тебе рассказать, но ты был в Киеве и возвратился, когда Севку уже отправили на Санамюндэ... И разве ты бы мне дал согласие, чтобы я помчалась за ним? А я должна была его разыскать. Ведь ты не забыл, надеюсь, какой это кошмар — любовь? Папа! Сегодня ночью мне приснилась странная вещь: будто мне года четыре и будто я бегу за тобой по лестнице, чтобы оторвать тебя от твоей любви. И только сегодня утром я поняла, ты пожертвовал для нас. И кланяюсь тебе в ноги. Ты, по моим понятиям, очень-очень порядочный человек. Я всегда это думала. Но на всякий случай пишу, чтоб ты никогда не сомневался в моем отношении.
Ты никогда нас не попрекал своим военным прошлым, не требовал ни уважения, ни почтения. И за это я даю себе труд понять, что жизнь у тебя была не особенно легкая, как и у всего твоего поколения, отец. Но ты нам не говорил: «Экая пошлая молодежь!» А максимум: «Мы в ваши годы были поаккуратней!»
Ваша жизнь и на самом деле была и жертвенной, и целеустремленной. Вы жили для будущего и отдали очень много: молодость, силы, сердце. Мы знаем — вы отдали лучшие дни своей молодости — не танцевали и не носили галстуков. (Я читала Пантелеймона Романова «Без черемухи».) В общем, вы себя отдавали идее, стране. А на нас сердитесь. Вот чудаки! Рождать нас мы, между прочим, вас не просили. Но ты-то как раз никогда ничего от меня за это не требовал. И поскольку такое дело — т о я д е й с т в и т е л ь н о тебя уважаю. Не сердись, отец. Все с твоей дочерью будет так, как ей нужно. И хорошо. Т о л ь к о т а к. Ясно? Дай мне жить своим умом, своим сердцем. Идет? И помни — с о в е с т ь е с т ь д а ж е и у м е н я. Ну ладно, пусть не совесть, а совестишка, — а все же есть. Я выросла и многое пересмотрела. (Помнишь, когда я была еще в шестом классе, я говорила, что выйду замуж только за вора, потому что воры отчаянные, а я уважаю отчаянных.) Севка не вор, а я здесь. По причинам совести. (Вру! По причинам любви.)
Папа, пойди к Костырикам. Поговори с его отцом. Пойди к самым главным военным начальникам. Прошу тебя. Я люблю тебя.
1) Здесь я устраиваюсь на работу и твой хлеб есть не стану.
2) Не огорчайся: учиться я буду. Но не ради того, чтобы отовариться высшим образованием. Просто хочу, и все.
В общем — не унывай, все в порядке. В Санамюндэ, по-моему, мирово! У моря я, правда, еще не была, но сейчас закончу письмо и подамся в ту сторону, посмотреть маяк. Здесь хорошо. Местные ребята, куда бы ни уезжали, всегда возвращаются на Санамюндэ.