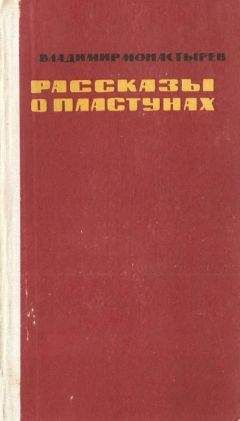Казаки лежали за маленьким бугорком и зло поглядывали на окна проклятого дома. Как только они пытались двинуться, оттуда стреляли, и пули рыли землю перед носом у казаков. Настроение у людей было неважное. И вдруг они услышали голос Плетнева. Когда и как он пробрался сюда, никто не заметил.
— Вы, хлопцы, ночевать тут решили чи как? — спросил парторг. — Неподходящее место — сыро.
Пластуны молчали. Плетнев тоже молчал, осматриваясь.
— А ну, хлопцы, с двух сторон разом, — вдруг скомандовал он и сам первый побежал, пригибаясь и забирая вправо. И так это просто он сказал и так легко поднялся, что казаки бросились за ним следом. Не прошло и десяти минут, как пластуны подобрались вплотную к дому.
— За мной, дружно! — крикнул парторг, вскочил на крыльцо, ударом ноги распахнул дверь. Тут его и сразило. Он рухнул на колено, выронил автомат и медленно упал на бок.
Пластуны, перепрыгнув через Плетнева, ворвались в дом. Рванула граната, захлебнулась автоматная очередь, и все было кончено: наступила тишина.
Бой уже шел за ближними холмами. Казаки, сняв кубанки, постояли над своим парторгом и пошли догонять сотню, а Иван Плетнев остался лежать на пороге дома — он теперь никуда не мог поспешать. Кончится бой, подберут пластуны убитых и похоронят в братской могиле. Насыплют над павшими товарищами курганчик, поставят скромный обелиск со звездой, прибьют дощечку с именами. Будет там имя и парторга третьей сотни Ивана Плетнева, бывшего котельщика из Краснодара…
А Зося в тот день ехала по тыловым дорогам в маленький городок с островерхими крышами, там размещался детский дом для беспризорных детей.
На новом месте ей было неплохо, но она трудно привыкала к незнакомым людям, скучала по своим друзьям-пластунам и часто писала письма Ивану Плетневу. Она свертывала их треугольничком, как ее научили казаки, тщательно выводила адрес: «Н-ская сотня, дяде Ивану» и сама бегала к почтовому ящику. Зося представляла себе, как Плетнев читает ее письма, на душе у нее теплело, и она не чувствовала себя одинокой.
Фамилия у него была несерьезная — Перепекин. Звали обыкновенно: Иван Григорьевич. Среди хористов дивизионного ансамбля песни и пляски Перепекин выделялся — прежде всего ростом. Он был худ и высок, шаровары на нем болтались так, словно он стоял на ходулях, а талия бешмета находилась под лопатками. На длинной жилистой шее прочно сидела маленькая птичья головка. И поворачивал он ее по-птичьи — толчками, и глаза у него были круглые, как у птицы, и нос острый — того и гляди клюнет.
Всю сознательную жизнь — а ему к началу войны уже утекло далеко за сорок — Иван Григорьевич болтался по разным хорам. От пронзительного мальчишеского дисканта голос Перепекина с течением времени сгустился до настоящего баса.
Военной службой Иван Григорьевич не тяготился, даже любил все ее атрибуты и церемониалы. В первую мировую войну он в настоящем строю не был — пел по хорам, но строевую выправку приобрел великолепную: шагал крепко, стоял, как струна, козырял с лихостью. Военные термины и названия произносил бойко и без запинки, будто из автомата палил длинными очередями. Длинными потому, что Иван Григорьевич питал слабость к титулам и наименованиям. Если он рассказывал о полках, где служил еще в первую мировую войну, то никогда не упускал случая с блеском развернуть перед слушателями полное их наименование, добавив: «Жалован серебряными трубами за лихую атаку под Перемышлем» или что-нибудь в этом роде.
В торжественных случаях, когда большое начальство наведывалось в ансамбль, дневальным срочно назначали Перепекина, и он с удовольствием принимал на себя нелегкую обязанность по всей форме встретить генерала или кого-то из его заместителей. Рапортовал он со вкусом, громко, звучно, выкатив на начальство свои веселые птичьи глаза. На вопросы, если таковые случались, отвечал не тушуясь. Он произносил «так точно», словно салютовал из мортиры, его «никак нет» исключало всякое сомнение и надежду на то, что может случиться как-нибудь иначе. Словом, в ансамбле, где народ подобрался нестроевой, стеснительный и для военного представительства мало пригодный, Перепекин был незаменим.
С такими же рядовыми казаками — хористами и со старшими, вплоть до начальника клуба, Перепекин умел жить в ладу. Он охотно выполнял мелкие поручения своих начальников — ходил на склад за продуктами, иногда носил для них обеды с кухни, при переездах обязательно таскал чьи-то чемоданы. Товарищи над ним подшучивали, но безобидно, и он отвечал им тем же. Только с Татьяной Привольной, солисткой ансамбля, у Перепекина сложились неважные отношения. Пела Татьяна сносно, а вот характер имела тяжелый. Это была высокая, худая, с плоской грудью и плоским лицом женщина. Настоящая ее фамилия не то Анискина, не то Фетискина, а Привольная — фамилия сценическая, под которой она выступала до войны в оперетте. Молодость уже прошла, красотой она не отличалась, и возместить этот существенный недостаток ей было нечем — ни живого ума, ни обаяния природа ей не отпустила. А может, и отпустила, но в таком малом количестве, что до зрелого возраста эти качества Татьяна Привольная не донесла. Во всяком случае, Перепекин считал ее наказанием, которое было послано хористам ансамбля за непочтение к родителям и за прочие тяжкие грехи.
Разговаривая с Иваном Григорьевичем, Привольная обычно вытягивала в ниточку свои тонкие губы и, не разжимая зубов, выталкивала едкие слова. Однажды, увидев Перепекина с котелками, в которых он нес обед начальнику клуба, Татьяна заметила:
— В старой армии из вас бы вышел хороший денщик. А может быть, вы им и были? — и обидно засмеялась.
Перепекин склонил голову набок и, стараясь не выдавать злости, тихо сказал:
— Вас, Татьяна Степановна, даже смех не украшает. Тусклая вы женщина, как хинное дерево в трехлетнем возрасте.
Это был удар такой силы, что Привольная отпарировать его не сумела и отошла от Ивана Григорьевича, закусив губу, еле сдерживая слезы обиды. Кто-то из хористов пожурил Перепекина за то, что он круто обошелся с женщиной.
— Пусть не задирается, — отрезал Перепекин. — Думает, раз она солистка — значит, ее камертон выше. Ничего подобного.
Трудно сказать, как бы сложились дальше отношения Перепекина и Татьяны Привольной, если бы не одно непредвиденное обстоятельство. На подступах к Одеру пластунские батальоны вели тяжелые бои и понесли значительные потери. Пополнение давали скупо, и пришлось изрядно сокращать тыловые подразделения, чтобы подкрепить сотни на переднем крае. Из ансамбля тоже взяли несколько человек, в том числе и Перепекина. Собрался он быстро: туго подпоясал черкеску, закинул за плечи вещевой мешок и, держа в руках кубанку с малиновым верхом, стал прощаться с товарищами. Ему жали руку, подбадривали, напутствовали. Хористы, которые оставались, чувствовали перед Иваном Григорьевичем неловкость. Конечно, артисты ансамбля подвергались на фронте многим опасностям — бывали и под бомбежкой, и под артиллерийским обстрелом, случалось им и за карабины браться, когда где-нибудь прорывался или просачивался неприятель, — бывали такие случаи. Чего только на войне не бывает. Однако главная квартира ансамбля находилась не где-нибудь, а все-таки в тылах, возле медсанбата или рядом со штабом тыла. Это, конечно, тоже фронт, но далеко еще не передний край. Когда части стоят в обороне, тут можно и раздеться на ночь, и в баньке без хлопот помыться, и ходить по земле, не пригибаясь и не укрываясь в траншеях. Словом, до противника отсюда не так-то и близко, а Перепекин шел в сотню, где ему даже во время затишья придется по ночам вести перестрелку с гитлеровцами, днем дремать вполглаза, ожидая атаки, или самому идти в атаку.
Попрощавшись со всеми, пошутив с приятелями, Иван Григорьевич и Привольной великодушно подал руку. Он ожидал, что солистка проводит его какой-нибудь колкостью, но Татьяна Степановна ничего обидного на этот раз ему не сказала. Она была необычно тиха и серьезна.
— Желаю вам доброго пути и удачи, — сказала она, глядя на Перепекина грустными глазами.
— Если раны, то мгновенной, если смерти — небольшой, — усмехнулся Иван Григорьевич.
— Не надо смеяться, — сказала она.
И Перепекин вдруг посерьезнел.
— Спасибо на добром слове, — ответил он и неожиданно для себя наклонился и поцеловал солистке руку. Поднял голову и увидел, что в глазах у Привольной стоят слезы.
Потом всю дорогу, пока шли через угрюмый ночной лес в сотню, Иван Григорьевич вспоминал грустное лицо Татьяны и ее глаза, наполненные слезами. «А она не так уж плоха, — думал он, — и лицо у нее симпатичное…» До войны Перепекин жил бобылем, и, когда уходил в армию, никто не собирал ему бельишко и не поплакал у него на плече. Может быть, поэтому сейчас ему было особенно дорого и приятно, что так хорошо и сердечно, со слезой во взоре, проводила его на передний край женщина.