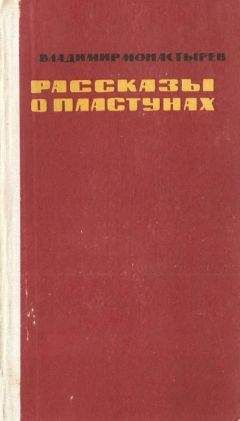— Ха-ха, нас голой рукой не схватишь, наш камертон выше!
Кубанку где-то потерял, волосы на затылке стояли дыбом, а спереди мелкими колечками прилипли ко лбу. Щеки совсем ввалились, круглые глаза исступленно сверкали. Таким его можно было увидеть, когда огневую озаряли вспышки выстрелов или разрывы гранат.
К утру бой разгорелся с особенной силой. Сосед слева нажал на противника и стал выходить на свои прежние рубежи. Отходившие гитлеровцы натыкались на огневую артиллеристов и, зажатые с двух сторон, лезли напролом. Дело дошло до рукопашной. Перепекин бил кого-то прикладом, колол штыком, ногой отталкивал какую-то серую фигуру, прижавшую его к пушке. В ушах у него шумело, будто рядом крутилось мельничное колесо. Он уже был ранен, но не замечал этого. Серую фигуру он оттолкнул, вздохнул полной грудью и рухнул возле орудия.
Очнувшись, Перепекин увидел над собой квадратное лицо Мирзоянца. Вокруг стояла тишина.
— Мы где? — спросил Иван Григорьевич.
— На огневой.
— Держимся?
— Держимся. Шесть человек осталось… Вьющенко убит, — и Мирзоянц всхлипнул.
Перепекин хотел встать, но не смог. В боку резанула острая боль, перед глазами поплыли ярко-зеленые круги, и он опять впал в забытье, но вскоре очнулся и, услышав над собой голоса, строго сказал:
— Положите меня на лафет.
Голоса умолкли. Он повторил:
— Положите меня на лафет.
Его подняли и положили на станину гаубицы. Он лежал длинный и неподвижный, со строгим лицом, обращенным к небу. Сознание его то меркло, то прояснялось, и тогда он широко открытыми глазами смотрел на розовые от далекого зарева облака. Мысли текли, как сны, легкие и невероятные. То ему чудилось, что он летит по воздуху, а под ним плещется розовое море, то казалось, что его хоронят с воинскими почестями — тело везут на пушечном лафете, сзади шагает сотня пластунов с лицами суровыми и скорбными. Он слышал музыку — оркестр играл Шопена, и одна труба фальшивила. Это рассердило Перепекина, он закрыл глаза — и видение исчезло. Потом он вспомнил подробности ночного боя, и его не покидало ощущение счастливого волнения: никогда он так полно и сильно не жил, как в эту ночь, во всяком случае, память не подсказывала ему ничего подобного. Он пожалел, что не могла его видеть в бою Татьяна Привольная, но мысль эта сейчас же показалась ему суетной и мелкой, и он отогнал ее.
Под утро на огневой появились артиллеристы: командир дивизиона — капитан и майор — заместитель командира артиллерийского полка по политчасти. С ними человек двадцать казаков. Они шли отбивать у противника свои пушки и были удивлены, найдя здесь пластунов. Когда во всем разобрались, подошли к Перепекину.
— От артиллеристов спасибо вам, — сказал майор.
Перепекин еще больше вытянулся и хотел крикнуть лихо: «Служу Советскому Союзу», но голос отказал, и он только беззвучно пошевелил губами.
— Да он, кажется, умер, — заметил капитан.
— Нет, я живой! — беззвучно закричал Иван Григорьевич.
Кто-то взял его руку и долго держал, ища пульс.
— Еще жив, — услышал Перепекин незнакомый голос и успокоился, закрыл глаза.
Над огневой позицией, над сосновой рощей и над голыми холмами, с трудом одолевая вязкий ночной мрак, занимался худосочный рассвет.
На другой день, перебинтованный, бледный и беспомощный, как ребенок, Перепекин лежал в одной из палат медсанбата. Это была большая, с пустынными стенами, сумрачная комната, заставленная разными, какие удалось собрать, кроватями. Иван Григорьевич лежал тут один, всех его соседей уже эвакуировали, а он остался, потому что был еще очень слаб. Товарищи из ансамбля несколько раз прибегали навестить Перепекина, но их не пускали. Они прилипали к окнам, стараясь разглядеть, что делается в комнате, однако толком ничего увидеть им не удалось — кровать Ивана Григорьевича стояла в углу, где света было меньше всего. А он их видел и радовался, что товарищи пришли его навестить.
Под вечер пришла Привольная. Что она сказала дежурному врачу — неизвестно, только ее впустили. Татьяна села на табурет и долго блестящими глазами смотрела на Ивана Григорьевича. Она была тщательно причесана, белый халат, одетый поверх бешмета, шел ей, и Перепекин смотрел на нее с удовольствием.
— Товарищи спрашивают, — наконец заговорила она, — не нужно ли вам чего-нибудь принести?
— Спасибо, ничего не нужно, — ответил Перепекин. Помолчал и добавил: — Я рад, что вы пришли.
Она покраснела, и глаза ее заблестели еще больше.
— Врач сказал, что опасность миновала, пойдете на поправку.
— Я живучий, — улыбнулся Перепекин, — жилистый, еще не отлили ту пулю… — он закашлялся. Татьяна подала ему стакан воды, Иван Григорьевич отпил глоток и задержал ее руку в своей. Она поставила стакан на тумбочку, а руку не отняла.
— Я вернусь, — сказал Перепекин, — скоро вернусь.
— В наш ансамбль?
— Нет, в сотню. Открыл в себе военную косточку, — Иван Григорьевич усмехнулся, скосил глаза в сторону Привольной. Она слушала без улыбки, и он стал серьезен. — Генерала из меня уже не выйдет — поздно, а сержантом буду. И за командира взвода смогу… Не одобряете?
— Почему же, одобряю. — Татьяна заволновалась. — Вот я вам колкости говорила, вы на меня сердились… А я не могла смотреть, как вы чужие котелки носите, я хотела вас не таким видеть, мне больно было… — она выдернула руку, встала и быстрыми шагами отошла к окну. Оттуда сказала: — Простите, пожалуйста.
Она скоро ушла, но Перепекин продолжал мысленно беседовать с ней, думал о ней и удивлялся, как это он раньше не заметил, что она его любит. Мысли были светлые и высокие. Сделалось немного грустно оттого, что лишь на склоне лет открыл свое истинное призвание и что так поздно пришла любовь. Но и грусть была легкая, без горечи.
Заместитель командира полка по политической части майор Алемасов широкими шагами ходил по комнате: руки за спиной, прямые волосы наискосок перечеркнули наморщенный лоб.
— Пойми ты, садовая голова, — убеждал Алемасов, — ее только что освободили из фашистского плена, ей домой, в Россию надо ехать, а ты ее в батальон приволок.
— Не насильно же я ее привез, — возражал капитан Кошунков, командир первого батальона. Он сидел за круглым столом, положив сжатые кулаки на синий бархат скатерти. Смотрел на свои руки, на Алемасова глаз не поднимал.
— Чем же ты ее прельстил? — Алемасов остановился возле комбата, глядел на него сверху вниз.
— А ничем, — Кошунков не изменил позы. — Полюбили мы друг друга.
— Полюбили! — Майор взмахнул руками и отошел в дальний угол. Обернулся и спросил не без яда: — С первого взгляда?
— С первого, — подтвердил комбат. — Как увидел ее, так и решил — она, другой не надо.
— И она решила, что без тебя ей белый свет не мил?
— Спросил: «Поедешь со мной?». «Поеду», — говорит. Вот и привез.
— А тебе не пришло в голову, что не положено посторонних людей, да еще женского пола, приводить в часть? Ведь ты военнослужащий и не на увеселительной прогулке находишься, а на войне.
— Брали же мы в армию людей из освобождаемых районов.
— То иное дело.
— Какая разница. Она в школе санитарные курсы проходила, я ее санинструктором зачислю.
— Он зачислит! Может, и звание ей присвоишь?
— А что, проявит себя, представлю и к званию.
— Ну, Кошунков, натощак тебя не переговоришь.
— Зачем же натощак, сейчас обедать будем, — комбат встал, подошел к двери и, приоткрыв ее, крикнул: — Захарченко, неси обедать.
Алемасов устало опустился на стул, оглядел комнату. Просторная, с высоким лепным потолком, с огромным камином, она служила, видимо, гостиной. В стенах остались крючья, на которых висели картины. Сейчас картин не было: бежавшие с немцами хозяева ценные вещи увезли с собой.
Проследив за взглядом Алемасова, комбат сказал:
— Вот тоже — поляки, а ушли с немцами.
— Поляки разные бывают, — ответил Алемасов. — Это — помещики, чего же ты от них ожидал?
Батальон Кошункова расквартировался в помещичьей усадьбе. Короткий отдых. Пластуны мылись, чистились, приводили себя в порядок после тяжелых январских боев. Несколько дней назад комбат ездил в Краков, где был сборный пункт для советских женщин, освобожденных из гитлеровской неволи. Туда ездили многие офицеры, кому удавалось улучить свободную минуту. Одни смотрели, нет ли родственников, угнанных немцами, другие — поглазеть на девчат: наши же, родные.
Кошунков привез из Кракова молодую женщину и объявил в батальоне, что это его невеста и что в тот день, когда Гитлеру будет капут, они торжественно отпразднуют свадьбу.
Комбат был человек отчаянный и неукротимый, смелый и удачливый. Командир полка питал к нему слабость и, узнав про невесту, привезенную из Кракова, попросил Алемасова: