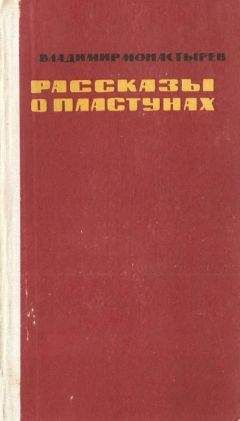— Я же сказал, тебе ехать. Глушко сам ранен.
— Он не сильно ранен, перевяжут и вернется. А я здесь нужней.
— Слыхали, она здесь нужней, — комбат усмехнулся. — Сколько раз я тебе говорил: приказ начальника — закон для подчиненного, — вздохнул и сокрушенно закончил: — Сколь бабу ни учи, как ни обмундировывай, а настоящего солдата из нее не сделаешь.
Говоря это, комбат глядел на Шуру, и глаза его улыбались. Весело и озорно глянул он на Алемасова и добавил:
— Поглядит на это дело товарищ майор и сделает вывод, что нет в батальоне Кошункова дисциплины.
Смотревшая в пол Шура вскинула глаза на Алемасова и мелькнул в них испуг: а и в самом деле не подумал бы товарищ майор чего худого про батальон Кошункова. Но майор ничего худого не думал, это читалось на его лице, и она успокоилась.
Надо было уходить из батальона, но Алемасов медлил: жаль ему было покидать этих молодых людей, они словно бы излучали в неуютный, безжалостный мир войны тепло, возле которого хотелось погреться душой. А уходить надо было, и майор распрощался с Кошунковым и Шурой.
За Одером пластуны отвоевали небольшой плацдарм. Форсировали реку на лодках и подручных средствах, Алемасов переправился уже по мосту, который навели саперы.
В батальон Кошункова майор попал вечером. Комбат сидел в подвале разрушенного дома, в сотне метров от окопов, которые занимали его казаки. Здесь же располагался командный пункт соседнего батальона, было тесно, дымно, чадно от самодельных светильников, от самокруток, от сушившихся портянок.
Кошунков сидел прямо на полу, голый до пояса, а Шура бинтовала ему плечо.
— Ранен? — спросил Алемасов.
— Если бы, — Кошунков поморщился. — Чирий под мышкой, сучье вымя называется. Хорошее название. И болит хуже раны.
— В санбат надо, — сказала Шура, — там вскроют, почистят.
— Вот, не хватало еще, чтобы комбат Кошунков с плацдарма явился в медсанбат с чирьем. «Здрасьте, я пришел, скликайте хирургов на операцию, дайте больному наркоз и поставьте клизму…» — он опять поморщился. — Черт знает, как больно.
Шура забинтовала плечо, комбат с ее помощью натянул рубаху, надел бешмет, черкеску.
— Ну, я пошел.
— Куда? — спросил Алемасов.
— В окопы. Наблюдатели донесли — немец что-то затевает.
— Было время, когда они по ночам отдыхали.
— Было, — согласился Кошунков, — научили мы их воевать круглые сутки… на свою голову.
— Научили, — усмехнулся Алемасов. — Не до сна им теперь: Волга-то во-он где, а Одер — вот он, за нашей спиной.
Они двинулись к выходу. Шура пошла вместе с ними.
— А ты осталась бы, — сказал ей Кошунков.
— Идем, идем, — ответила она, — я днем спала.
— Когда это ты успела?
— Успела.
— Вот сочиняет!
Они препирались, как школьники, и Алемасов про себя отметил эту ребячливость, которая сохранилась в них несмотря ни на что, жила где-то под спудом. «А ведь это хорошо, — думал он, шагая по травянистому склону к окопам, — значит, есть в них то чистое и светлое, что имеет человек в юности…».
Окопы занимала по-прежнему реденькая цепь пластунов: пополнение перед броском через Одер батальон получил незначительное, в бою за плацдарм оно растаяло. Алемасов заговорил с казаками, многих он знал по фамилии — ветераны, пришедшие на Одер с Кубани.
Возле ефрейтора Рябко майор задержался. Они закурили, присев в окопе и пряча цигарки в рукава.
— Жмет немец, — сказал Рябко, — в прошлую ночь соседей три раза атаковал, в эту, говорят, на нас пойдет.
Говорил ефрейтор спокойно, будто и не ему предстояло в эту ночь отбивать атаки противника. Это спокойствие, каким отличались пожилые казаки, всегда удивляло Алемасова. Сам он перед боем волновался, ощущал нервный подъем и тревогу одновременно. Научился скрывать волнение, прятать тревогу, но вот такого естественного спокойствия и даже некоторой отстраненности от предстоящего, какое было у того же ефрейтора Рябко, он не достиг.
— Немец почему ночью стал воевать? — рассуждал между тем Рябко. — А потому, что днем наши на него муху пускают, он от нее не знает, куда деваться.
Алемасов усмехнулся: метко оказал Рябко, он имел в виду нашу авиацию, которая теперь господствовала в воздухе и не давала противнику покоя. Пополнение в последнее время давали скупо, но техники было много.
Прошла по траншее, спеша куда-то, Шура. Рябко проводил ее взглядом, сказал:
— Доброволка наша. У меня дочка такая же: шустрая, беспокойная. Я ее так и зову — дочкой, а она меня батей…
Над траншеями, над холмами с редкими перелесками текла тихая, по-весеннему темная ночь. Где-то справа на темном небе изредка вспыхивали и гасли радуги трассирующих пуль. Где-то далеко — звуки выстрелов не доходили. Алемасова эта тишина тревожила: не к добру. А Рябко, подперев широкой спиной стенку окопа, привычно сидел на корточках, покуривал из рукава и неторопливо говорил:
— Не женское это дело — воевать, а что поделаешь. Такой наш век, что бабе приходится мужскую работу исполнять. Опять же без них и на войне плохо. Мало того, что мужик тебя так и не перевяжет при ранении, как женщина, она еще и слово знает, чтобы душу отогреть. И поглядеть на нее бывает приятно, и для примера не вредно: если женщина военную тягость переносит, то мужику и жаловаться грех… А с Шурой мы на досуге беседуем по душам. Я ей про свою дочку рассказываю, она про свою жизнь. Хлебнула она горюшка. Полная сирота, в неволе два года жила, всякого повидала. Последний год в Польше, у немца-колониста в работницах находилась. Кормили ее там досыта, не били. Работать заставляли много, но это, говорит, ничего, к работе можно привыкнуть. Не могла она привыкнуть, что относились к ней, как к скотине. Для этого колониста, говорит, что корова или лошадь, к примеру, что я — все одно, никакой разницы. Перестала корова доиться, он ее прирежет, выбилась из сил работница, он ее — в лагерь, откуда взял. Может, и прирезал бы, как скотиняку — хлопот меньше, — а не положено, пусть в лагере сама доходит… Вот она и говорит: очень хочется до Германии дойти, поглядеть, что же это за страна такая, где эти колонисты произрастают…
Еще часа полтора было тихо на переднем крае, и Алемасов успел побывать и у пулеметчиков, и у бронебойщиков. Потом тишина взорвалась по всей линии окопов: противник обрушил артиллерийский огонь на траншеи. Потом были три атаки. На левом фланге дело дошло до рукопашной.
Алемасов забрал автомат у раненого казака и палил в ночь, при свете ракет бил прицельно по темным фигурам, поднимавшимся из лощины к траншеям.
Комбата он увидел на рассвете, когда немцы попритихли и ночной бой исходил вялой перестрелкой. Кошунков опять был гол до пояса, и Шура его перевязывала. На этот раз он предупредил вопрос Алемасова.
— Лопнул, — сказал он с нервным смешком. — Чирий лопнул — так легко стало, будто заново на свет народился.
Сбивая немецкие заслоны, наши войска двигались на запад, и уже виден был конец войны, и на дорогах обозы шли днем, не опасаясь вражеской авиации, не маскировались, не рассредоточивались. Иногда вдруг возникал в небе «мессер», но тотчас, будто они того и ждали, бросались на него советские истребители. А не было истребителей, зенитчики открывали огонь и глядишь — уже задымил «мессер», валится на крыло и камнем летит к земле. Научились за четыре года воевать, и все теперь, в эти весенние дни, удавалось, получалось лихо.
Алемасов двигался с батальонами — то в одном поживет пару дней, то в другом. Как-то днем сидели они с Кошунковым на берегу неказистой речушки, ждали, когда подойдет кухня. Тут же, выбрав места посуше, грелись на солнышке пластуны. Чуть поодаль раскинулся чей-то обоз — машины, подводы, тягачи. На новеньком, еще пахнущем смолой мосту сидели двое солдат, свесив в воду лески.
— Умеют люди от войны отвлекаться, — сказал Алемасов, глядя на рыболовов.
— Лопухи, — не одобрил Кошунков, — пришли в Германию рыбку ловить. На крючок.
— А что плохого? — удивилась Шура.
— Фашисты у нас не так ловили. Гранату в пруд — шарах — и вся рыба пузом кверху.
— Значит, и нам надо гранаты в пруды кидать? — опросил Алемасов.
— А что? И кидать. Чтобы запомнили и детям своим заказали на восток войной ходить.
— Это ты зря, Кошунков, — сказал Алемасов. — Это уже будет слепая месть.
— Правильно, месть. Я знаю твердо: отомсти за поруганную землю родную, убей немца!
— Убей того, кто с оружием пришел на нашу землю. А ты — рыбу глушить.
— Око за око…
— Они стариков и детей расстреливали!
— Они — расстреливали. Я сейчас не об этом… Зачем брать крайности?
— Вот и я говорю — не надо доходить до крайностей, — усмехнулся Алемасов. И повернулся к Шуре. — А ты как думаешь?
Она пожала плечами.
— Я все ждала, когда мы в Германию войдем, очень хотелось поглядеть, какие же они у себя дома, немцы. Вижу — напуганные.