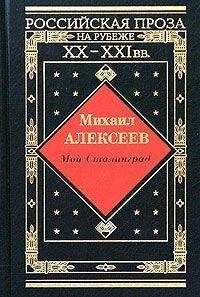Ознакомительная версия.
У следующего бывшего подворья Иннокентий Данилович раскрыл свою канцелярию, заглядывал то в тетрадь, то на бугры посматривал – вспоминал что-то. Наконец заговорил:
– Ну, так и есть. Его хата. Левонтия Хижинкова. Ну, ты, верно, помнишь его? Кто из вас, мальчишек, не побывал в хижинковском саду, за речкой, супротив мельницы, помнишь небось? Какие там яблоки были, на всю Саратовскую губернию славились! В прежние времена купцы прямо из города к нему за яблоками и грушами приезжали. Старший-то Хижинков, отец Левонтия, прижимист был – драл с тех купцов толстенные рубли. Получил Левонтий немалое наследство. Жить бы ему тихо-мирно, а он сам вознамерился в купцы выйти. Лавочку открыл собственную. Начал богатеть. А тут – вот она. Советская власть. Первые-то годы припугнула было его, закрыл лавочку, да ненадолго: в двадцать первом открыл вновь. И размахнулся во всю силу! И опять – не туда. Раскулачили вчистую. Сад отобрали, лавочку – само собой, имущество все как есть реквизировали. Озверел Левонтий, подкрался ночью к сельскому Совету, бабахнул из двух стволов сразу в районного уполномоченного, какой раскулачивал, – и бежать. Да недалеко убег. Настигла милицейская пуля за мостом. Хотел перескочить через плетень, да в сад. А тут, на плетне, она его и ужалила. В спину, против сердца. Помнишь небось, лежал он в терне – белый-белый, упитанный, как хороший боров?.. Деньги, брат, они до добра не доводят. Ты, сынок, за ними не очень-то гонись. Они как красивая беспутная баба. Повиляет перед тобой хвостом, ты – за ней, и прямо в пропасть. Так-то!.. Ну, пойдем дальше. Ай передохнем маленько?.. Что-то в горле запершило... Давай-ка присядем. В ногах правды нету, – закончил он, целясь тощим своим задом в чуть выпиравший из-под земли полусгнивший пенек. При этом глаз его недвусмысленно косился на сельскую лавку, притулившуюся как раз неподалеку.
Сунул я незаметно трешку одному из вертевшихся вокруг нас, чудаков, мальчонке. Тот вмиг понял, что от него требуется, и через минуту уже скрылся за дверью магазина.
Иннокентий Данилович делал вид, что ничего он такого не приметил, что ему все едино – побежал кто в лавку аль нет, ему абы передохнуть, ублажить старые члены. Однако на лице его вновь явилось старческое сияние, когда посланец наш вернулся и из-под рубашки у него очень четко прорисовывался некий сосудец. Старик не утерпел, хмыкнул от удовольствия:
– Ишь ты, подлец!..
Выпили мы с Иннокентием Даниловичем по одной. И по другой выпили. Не отказался бы старик и от третьей, да я притормозил: вовремя спохватился, что после третьей моего спутника непременно будет позывать на сон. Дед уже и сейчас поклевывал носом, подремывал, а в промежутках этого поклевывания все пытался рассказать про какого-то поручика Евлахова, ротного их командира из времен первой германской. Евлахов, сказать честно, меня не шибко интересовал, и слушал я рассказ о нем менее чем внимательно. В памяти зацепилось только то, что был поручик Евлахов несусветный пьяница, бабник и вообще превосходный человек, поскольку именно он подарил ротному писарю Иннокентию Данилову свой старый офицерский ремень, пряжка коего и поныне хранится на чердаке.
Очнувшись в очередной раз, дед начал шарить вокруг себя в поисках рюмки. Он забыл, что этою самою рюмкой закусил вторую чарку: рюмки тот же мальчонка соорудил нам из половинок выдолбленного огурца.
Я напомнил Иннокентию Даниловичу про это. Он усмехнулся и опять задремал. Потом как-то встрепенулся, оторвался от пенька совсем по-молодому и первым пошагал к следующему подворью. Не заглядывая в канцелярию, сразу же, прямо, что называется, с ходу, начал:
– Ну, того-то ты, сынок, знаешь. Мишка Зеленев проживал тут со своей мамашей, кумой Прасковьей. Она и теперь в Выселках, на хуторе, живет со снохой, женой младшего сына Кольки, которого на нынешней войне убило. Мишка у нее – старшой. Самый главный был на селе активист. Был он секретарем и комсомольской, и партейной ячейки. Колхоз-то он вместе с Акимушкой, вечным нашим депутатом, да другими организовывал. И колокола с православной церкви сымал – все он. Мишка. А красную церковь, старообрядческую, али кулугурскую, по-нашему, – так ту местные сельсоветские власти пропили. Продали в районный центр. Там-то ее к делу употребили. Может, видал кинотеатр? Центральным прозывается – так это вот из нее, из нашей красной церкви... В самое-то худое время Мишка в город подался, испужался, знать, трудностев. Хатушку свою бросил вместе с матерью – и айда! Теперь приезжает из Саратова – глядит – живем ничего, хлеба, молока, того-другого многонько стало. Соломенные крыши на шифер да на железо стали менять. Глядит, хвастается:
«Это я колхоз-то организовывал!»
«Ты – это верно, – говорит ему раз Капля, у того язык не любит сидеть за зубами. – Верно, ты организовывал. Да вот только не могу я в разум взять: почему ты, Михаила, раньше всех удрал из этого колхозу? Акимушка не удрал, а ты удрал?»
«Меня выдвинули», – говорит Михаил.
«Выдвинули? Так, так, – говорит Капля. – Знаю я еще такого выдвиженца. Мой племянник – Самонькой зовут. Немного, годков так на десять, помоложе тебя будет. Милиционером в Москве служит. Слов нет, работа важная, нужная. Да хвастаться-то зачем?..»
«Я не хвастаюсь», – говорит Михаил.
«Да я не про тебя», – говорит Капля.
Так-то покалякали и разошлись.
...Дольше Иннокентий Данилович не захотел задерживаться у бывшего Мишкиного двора. Скоро перевел меня к другим буграм, совсем свежим... Фундамент был еще целехонек: не успели камни повыворачивать.
– Ну а эту избу порушили совсем недавно. С полгода будет. Проживала в ней Орина Штопалиха. Мать-героиня. Перед самой войной десятый сын у нее родился. Муж ее, Артемка, не дождался младшенького, умер за месяц до рождения Антошки. Хотелось ему, бедняге, дочку заиметь. Все сыны да сыны родились. Так и вел дело в надежде дочку заполучить. А Штопалиха ему сыновей однех катала. Может, чуяла баба, что войны не миновать, что для нее много солдат потребуется. Не видал Артемка, как вручали орден его Орине. Все село сбежалось к ихней избе. А она прижимает тот орден к груди, а сама заливается слезами горючими да приговаривает: «Разумильный ты мой, Артемушка, да на кого же ты нас спокинул, сокол ясный?.. Да открой ты свои глазоньки, погляди на своих соколиков, порадуйся вместе с нами!.. Да пойду-ка я на могилки, разрою рученьками сыру землю, откопаю тебя, мово размилого, разлюбезного!..» Бабы – а их сбежалось туча тучей – подняли такой-то вой, что страхи Господни! А на другой день – вот она, война, подкатилась, матушка, к порогу. У баб еще слезы с вчерашнего не просохли, а они уже завопили вновь, да еще сильнее.
Орина проводила на фронт сразу семерых – все были трактористами. С малыми осталась одна. В последний год войны проводила еще двух. Антошка – при ней. А тут похоронная за похоронной. В один год, в сорок первом, сразу трое полегли: Федор, Матвей и самый старший, Гришка. В сорок втором, под Сталинградом, еще двое головушку сложили – Иван и Алексей. В сорок третьем, на Курской дуге, у Прохоровки, еще троих не стало: Егора, Владимира и Константина. Эти по примеру братьев Михеевых в танкисты попросились. И сгорели все в одном танке, с «тиграми», вишь, немецкими сразились. Ну а девятый, Николай, тот в Венгрии, где-то на озере Балатоне погиб... Поначалу-то рыдала-плакала Штопалиха, волосы на себе рвала, память теряла, разум – бабы, соседки, такие же, как и она, солдатки, водой ее отпаивали да отливали. Больше всех помогала Журавушка – молодая, сильная, крепкая бабенка. Ее Петра тоже где-то за Днепром положили немцы проклятые... Плакала, значит, поначалу Ориша. А потом перестала. Слез, видно, не хватило, выплакала на первых все. Получит похоронную, извещение то есть, и стоит с этой бумажкой неподвижно, как белый камень. Ее спрашивают о чем – не слышит, не отвечает. Вернется в избу, запрется изнутри и три дня не выходит. Потом объявится, молча пойдет в поле – с граблями ли, вилами ли. За нею, держась за мамкину юбку, семенит Антошка... Ни жалоб от нее, ни крика больше никогда не слыхали. Вот она какая, Штопалиха!..
– Где же она сейчас? – нетерпеливо спрашиваю я.
– А ты не торопись, – сердится Иннокентий Данилович, – все скажу как есть, по порядку. После девятой-то похоронки вся ее любовь к сыновьям обратилась на Антошку. Уж как она его лелеяла-ласкала! Хлеба было мало, она свою пайку ему берегла, сама хлебала колхозные щи, в которых ни жиринки. Капуста да вода. Варили их со святой молитвой да с проклятиями сатане Гитлеру. Сберегла его, Антошку, выходила, выхолила. Славный вырос парнина. Проводила в армию. Отслужил свой срок и в Сибирь подался, добровольцем Красноярскую ГЭС строить. Там и женился. Мать к себе забрал. Перед тем сходила она на могилку, отыскала бугорок, под которым лежит ее Артемушка, наплакалась вволю, да и распрощалась с Выселками. Так-то вот...
У следующего запаханного, заросшего бурьяном двора не задерживались вовсе.
Ознакомительная версия.