Третья карточка оказалась маленькой — видимо, для удостоверения.
— Вот какова она теперь, моя милая! — объявил Синицын. — Стриженая, пухлая, рыхлая… поганый гриб. Эх, времечко!
— Мы и сами ее такой знаем. Не гриб, а вроде мучного червя, — ответил Файнштейн. — Смотри, какие на ней отпечатки! — почти закричал он. — Ведь она же ведьма! Жирная ведьма!.. Эх, Петька, это же смешно!
— Смешно, — подтвердил Синицын. — Знаешь, как я свою Лельку люблю, но если бы увидал ее столь противной и всю в складках…
— Лельку нечего трогать, — оборвал его Файнштейн. — Вот пусть он тебе с твоей Лелей и позавидует!.. Пошли. Покажем счастливому любовнику радости, которыми он наслаждается. Нечем ему крыть, Миша.
— Совершенно нечем.
И они отправились к дому Пашеты. Оттуда, словно приметив их еще издали, вышел Петр Павлушин. Он покуривал папиросу и поглядывал прищуренными глазами вдоль пыльной улочки.
Всю вторую половину дня писательница пролежала в постели совершенно разбитая, как это было зимой, после несправедливой критики литературных врагов, которым она не могла ответить. Но тогда ее наполняли разнообразных оттенков обиды, а сейчас ее сковало огромной силы чувство, над которым, как наклейка на банке с ядом, была прочно прикреплена мысль: «Пусть его спасает кто хочет».
Надо было одолевать унизительное бессилие, накапливать бодрость, но на этой трясине не сразу вырастают крепкие опоры. И произошло то, что не случалось с ней от самых дней юности: от здорового истощения тревогами и злобой писательница заснула. По правилам старой сказки — «сном любое горе забывается». Она проспала до вечера, потом наскоро забежала в конструктивный ресторан, где в белом свете электричества, под гром развеселой музыки подавали запеканку из вермишели. Покончив с вермишельным бруском, писательница пустилась в город. Было девять часов, она опаздывала.
Павлушины обитали на центральной улице, в трехэтажном доме стиля мавританских замков, то есть с похожими на отверстие ключа окнами и облицовкой из выветрившегося ракушника. Однако дом обладал таким запасом прочности, что над ним возводили еще два этажа, уже без всяких мавританских затей, и проникать через палисадник к входу приходилось сквозь дощатый коридор, спасавший обитателей и посетителей от случайного кирпича в темя.
На звонок — два продолжительных, один короткий — открыла истощенная женщина, видимо прямо от корыта.
— Вы к Павлушиным? А мне послышалось три продолжительных… Идите по коридору, последняя дверь направо.
Из всех комнат выглянули любопытные соседи. Та, куда прошествовала истощенная женщина, предъявила дьяконскую физиономию: борода, длинные волосы, одутлые щеки. Там же свежий голос подростка весело распевал «Гоп со смыком» — для некоторых областей нашей страны песенку нэпа, песенку целого исторического этапа.
Писательница постучала в массивную, сплошь в разнузданной резьбе — грифоны, амуры, трилистники, розы — дверь и, услыхав слабый ответ, вошла.
Лампа лила из-под золотистой юбки свет на квадратный, крытый белой скатертью стол с клеенчатой дорожкой посередине. По одной этой дорожке нетрудно добежать воображением до бытового идеала хозяев. Все должно быть беленько, чистенько, снабжено покрывалами, подзорами, гардинами, оклеено веселыми обоями, выметено, вычищено, натерто. Порядок и опрятность властвовали здесь, в этих смежных комнатах, отделенных разнузданной дверью от мира надстроек и жилищных склок.
За столом сидела на первый взгляд очень молодая женщина, темноволосая, гладко, по-старинному — с пучком на затылке — причесанная. Перед ней, как сугроб, высился ворох белья, которое она чинила.
Женщина спокойно отложила иголку, встала. Только тут, всмотревшись в ее обтянутые скулы, в запавшие глаза, которые придавали всему лицу выражение невеселой строгости, а при смущении, как сейчас, даже виноватости, писательница увидала, что она просто моложава и до того скрытна, что как бы не позволяет морщинам и сединам выдавать свой настоящий возраст и нелегкий жизненный путь.
Писательница поздоровалась. Раиса Степановна подала руку и сказала, что муж ее предупредил о гостье.
— Мама! — позвал из соседней комнаты детский голос.
Жена Павлушина, неслышно и легко ступая тапочками по натертому паркету, скользнула в дверь, за которой сияли белые тканьевые одеяла, белые кроватки детей.
Писательнице показалось, что она проникла в самое сердце павлушинского семейного уюта. Тот мрачный замок в тридцать семь метров жилплощади, который она построила в своем воображении, собирая сведения о семье начальника утильцеха и знакомясь с ее блудными представителями, растаял, сменился неожиданной действительностью. Беленькие обои, разрушившие все ее представления об этом надстраивающемся, мрачно-бурого цвета доме, показались ей не менее странными, чем однажды виденная ею в литых стенах Зимнего дворца лубяная баня. В момент крушения умозрительно созданного надо было искать путеводных вех в этой уютной действительности, из которой не захотелось бы вылезать не только в Нахаловку и казарму, но и в палисадник с дощатым коридором. Здесь украинский идеал белизны жилища торжествовал вполне. По стенам выстроились креслица в белоснежных чехлах с красной каемкой по швам, напоминая «неродившиеся души» Метерлинка в приютских балахонах. Зеркало отражало только белое, ибо все остальные цвета — юбки абажура, двери, коричневых венских стульев — были введены сюда лишь для того, чтобы подчеркнуть силу белизны как материальной опрятности. Писательница век прожила в случайных комнатах, среди чужой мебели, ее словно возили из дома в дом, как мыслящую машину. Но именно поэтому она сразу почувствовала себя глубоко чуждой миру Павлушина и его жены. Здесь, в этой скромности и непритязательности, сосредоточилась такая активность, такое желание добиться и умение добиться своего, что эта белизна начинала казаться почти бездушным проявлением деспотизма.
— Спи, мальчик, спи. Папа приказал спать, — сказала мать, возвращаясь к гостье, и неслышно, но крепко притворила дверь в спальню.
— Раиса Степановна, вскипел! — послышалось из коридора, и чья-то пухлая белая рука протянула алюминиевый чайник.
Раиса Степановна взяла его и неуловимо быстро накрыла стол. Ее несколько тягучая речь странно не соответствовала проворству движений.
— Товарища Павлушина вызвали, — сообщила она почти официально. — Приехал на автомобиле директор, нынче назначено испытывать на опытном поле какой-то электрический плуг. В выходной день дома не посидишь. А у него еще жар и голова болит. От второй прививки… Хотел вернуться в восемь, а сейчас десятый час и его все нет. Забелить вам чаек?
Писательница улыбнулась, утвердительно кивнув, и Раиса Степановна протянула ей чашку чая с молоком. Они пили его с конфетками, знакомыми писательнице по ресторану и замечательными тем, что на них даже мухи не садились, — до такой степени их отдушка была далека от естества. Беседа порхала по общеобязательным в таких случаях темам: трудно с картошкой и сахаром, в закрытом распределителе продают по коммерческой цене туфли, на детях все горит, переуплотнена квартира… Под влиянием испытаний Раиса Степановна выработала защитную бессодержательность речей вроде: «Нынче на базар возами навезли арбузов» (хотела прибавить, «неважных», да с незнакомой женщиной воздержалась); или просто сообщала, что у них на углу сидит безногий нищий. Писательница не знала, куда девать этот вздор, а приходилось самой толкать разговор в дорогую картошку или перебои с постным маслом, чтобы придать обмену звуками хоть видимость общения, видимость мнений, оценок. Все это напоминало существовавший когда-то, и вовсе не так давно, и вовсе не во всем мире истребленный, обычай нанесения визитов, когда люди, тараторя, старались высказать как можно меньше и как можно в более общепринятых формах. Раиса Степановна ловко управлялась с чаем и нисколько не смущалась угощать и занимать беседой приезжую из Москвы писательницу, причем в ее уверенности не было ни грана тупости или непонимания, с кем ей приходится иметь дело.
«Себе на уме», — решила писательница и сердито прервала пустяки:
— А я сегодня познакомилась с вашими падчерицей и пасынком.
— У них были?
Раиса Степановна побледнела, кровь отлила от щек, почернели глаза.
— Да, была, — жестко ответила писательница.
Обе на короткое мгновение замолчали, чтобы бессознательно перестроить весь план защиты и нападения, тогда как обеим думалось, что одна просто поражена сообщением, а другая — тем, как оно принято.
— Зачем же? — неожиданно спросила Раиса Степановна.
Ее медленный и тихий голос прозвучал сурово и подозрительно. Она почуяла врага, так как не верила в бескорыстные интересы. Ей даже захотелось иметь свидетеля дальнейших объяснений. Писательница молчала, простой вопрос захватил ее врасплох. «И в самом деле — зачем?» И она неуверенно ответила:
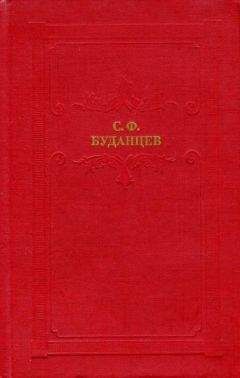



![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)
