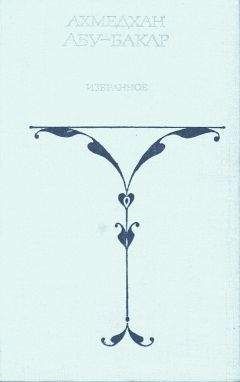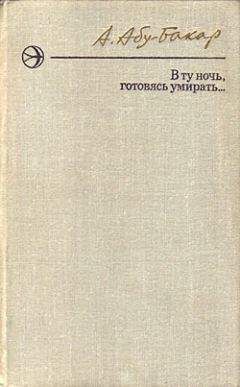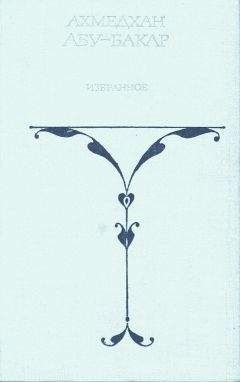— Эльмирочка, доченька, не узнаешь? Да, впрочем, как тебе узнать! Ты ж была совсем крохотной, когда я ушел на войну… Что, хорошая? Чего испугалась? Я же твой папа!
— Папа? — удивляется ребенок. — Такой старый?
— Ну что ты, доченька, разве я старый!
— С бородой…
— Вот побреюсь, переоденусь, тогда увидишь, какой у тебя хороший папа. Тебя мама не обижала?
— Мама? Нет. Это я ее обижала…
Девочка нахмурилась.
— А почему, хорошая, ты обижаешь маму?
— Я не хочу обижать, но так выходит…
— Умница ты у меня!
— А ты пойдешь гулять со мной?
— Обязательно. И в лесочек пойдем.
— За шишками?
Так я встретился, познакомился и объяснился с родной дочерью.
Эльмира росла ласковой, понятливой, доброй, и, право же, я быстро перестал жалеть, что у меня нет сына.
Один аллах знает, как они жили без меня. Зулейха работала в колхозе не разгибаясь: возила навоз, пахала землю, а чаще лопатой копала, дрова колола для школы, стирала белье в детском доме, шила, вязала теплые носки, чтоб в базарные дни обменять на кукурузную муку… Даже после моего возвращения Зулейха не оставила колхозной работы, несмотря на все просьбы и даже угрозы. Была она вроде того азартного борца, что легко положил на лопатки противника и, не зная, куда девать избыток энергии и силы, тут же побежал вокруг аула… «Не могу! — говорила Зулейха. — Не могу! Руки просят работы. Понимаю, что руки огрубели, что потеряла, наверное, женственность и нежность, — ведь работа нелегкая и не очень чистая, беречь себя не приходится, но зато оплата чистая и совесть спокойная… Очень прошу, не обижайся!»
Сами понимаете, мог ли я обижаться на единственного человека, что искренне облегчает мое горькое одиночество, на мать моей дочери?! Горько было, что я постарел, обмяк, часто болею, ноги налились тяжестью, морщины стеснились на лбу, лучами просияли возле глаз… И вроде бы с удовлетворением, утешаясь, замечаю про себя, что вон и Зулейха хоть намного моложе меня, а тоже начинает поддаваться: пополнела, на лице бороздки морщин, руки шершавые.
— Постарел я, Зулейха, постарел…
— И вовсе нет! Просто устал и болен. Какая там старость!
— Даже дочка заметила…
Я ждал, что жена скажет: «Да и я сама постарела, дорогой!» Но, видно, все женщины одинаковы: нет у них сил признаться в этом.
— У тебя молодая любящая жена, — улыбнулась Зулейха.
— Спасибо! Ты добрая… Без тебя и трудно ж было б мне жить! Ничего, Зулейха! Вот поправлюсь, встряхнусь, устроюсь на работу, и заживем по-новому. Я теперь другим стал…
— Каким?!
— Разве не замечаешь?
А сам думаю: «Эх, знала б, что творится в моей душе!»,
— Нет, не замечаю. Какой был, таким и остался.
— Как это не замечаешь? Вот разговорчивым сделался…
— Ну конечно, это я заметила! Бывало, клещами слова не вытянешь…
— Зачем уж так преувеличивать, Зулейха!
— Да, сильно изменила людей война, дорогой…
Она была права. Печаль и горе войны, радость победы как бы сделали советских людей побратимами. Люди научились ценить жизнь и думать о ней стали шире, понимать ее многообразие, сложность, неповторимую прелесть…
…Почти год пролежал в своей сакле. И хотя еще не окреп как следует, решил подняться с постели. Стало стыдно: ведь Зулейха с трудом сводила концы с концами, хоть и не признавалась.
Случайно обнаружил, что жена тайком опустошила свой сундук: продала на сирагинском базаре свои наряды и украшения, лишь бы покупать для меня масло, баранину, сыр… Почти до слез тронула однажды и дочь: принесла из школы миску шурпы — похлебки и сказала: «Поешь, папа! Это очень-очень вкусно…» А ведь я заметил, что Эльмира и за обедом, дома, не ела досыта, старалась больше оставить для меня… Ну, мог ли я лежать в постели?! И, несмотря на просьбы Зулейхи не подниматься, оделся и на попутной арбе поехал в район.
Встретили там радушно, расспросили, посочувствовали: «Трудно живется? Да, да, дорогой, жизнь сейчас у всех еще нелегкая!» И предложили вернуться на прежнюю работу — инспектором районо. И тут же дали хлебные карточки на десять дней вперед.
Возвращался медленно, пешком, сияющий от радости: в хурджине лежали три испеченных в пекарне белых каравая, румяных, треснувших по краю, с хрустящей коркой. А какие вкусные! Не помню, когда еще ел хлеб с таким наслаждением. К стыду своему, по дороге сожрал полбуханки. Да, не всякий понимает, что такое хлеб и какова его цена. Недаром горцы относятся к хлебу, как к святыне, крошки не уронят на пол, не коснутся его ни ножом, ни кинжалом, а бережно разломят на ломти руками, оделят всех, кто присутствует, и обязательно помянут благодарным словом землепашца и добрую землю, на которой вырос этот хлеб. Радовались в тот день и Зулейха с Эльмирой, радовались и гордились мной… Жить семье стало гораздо легче. Да еще, разъезжая по аулам, я то и дело привозил в хурджинах масло, сыр, сушеные фрукты, орехи, муку — дары кунаков, у которых останавливался и которые старались поддержать беспомощного интеллигента, что не сеет и не жнет и в житницы не собирает, даже не имеет приусадебного участка, живет лишь по карточкам.
А вскоре карточки отменили. Жизнь налаживалась…
Абрикосовое дерево, посаженное по традиции Эльмирой возле школы, когда пришла она в первый класс, уже крепло, поднялось, приготовилось зацвести…
Моя девочка ходила уже в третий класс.
Я жил с вами, почтенные мугринцы, ел с вами хлеб свой насущный и не был, представьте, безразличен к тому, что за ветер и откуда продувает мою саклю, в каком месте протекает крыша над головой и где надо заделать щель. Да и народ вокруг стал иным, больше проверял на практике, думал, спорил, доказывал, смеялся. Словом, как говорится, понял: чтоб сделать масло, надо молоко трясти покрепче; ведь масло «сбивают»! И когда, укрупняя районы, соединили ваш животноводческий район с Кайтагским, садоводческим, мугринцы даже сочинили частушку:
Эх, хакимы вы, хакимы,
Разве можно быть такими?!
Разве можно мудрецу
дать за яблоко — овцу?
После объединения мне, работнику районо, надлежало перебраться в Маджалис, где лежал в развалинах дворец отца, князя Уцуми. Мог ли я на это решиться?!
Попросил оставить в Мугри. И тут, к моему удивлению, — видимо, из уважения к боевым заслугам и орденам, — направили Мутая из Чихруги не простым учителем, а директором школы в Мугри.
Представьте себе, после всего, что услышали, я руковожу средней школой! Директор — это немалый оклад и большое уважение. Мугринцы при встрече пожимали руку, спрашивали о здоровье. Могу сказать не без сожаления, директор школы — высшее, чего я достиг в тревожной и неустроенной своей жизни. А дальше… Дальше стал спускаться по лесенке, со ступеньки на ступеньку. Ниже и ниже…
И в тот год, когда Эльмира, девочка моя, которая поднялась, как тополек, сделалась хрупкой, стройной, приветливой и нежной и такой пригожей, что мать все время боялась, как бы соседки не сглазили, перешла в десятый класс, я уже не был директором. Не был и завучем, а просто учительствовал — да, да, преподавал в начальных классах. Уже ни возраст, ни боевые ордена не могли удержать на почетных руководящих постах: не было у меня дипломов! И те самые ребятишки, которых учил когда-то писать буквы на классной доске, теперь возвращались в аул с дипломами педагогического института. И меня приглашали в районо, любезно предлагали сделать еще шаг, уступить место другому, что я и делал без обиды и ропота. На кого обижаться? Ведь в самом деле, выросли новые люди, культурные, с педагогическим образованием. Обижаться мог бы лишь на себя: многое упустил в жизни! А были возможности, были…
— Вы не думаете, уважаемый Мутай, наверстать упущенное? — спросил заведующий, по-дружески пересаживаясь поближе, рядом, на диван. — У вас большой опыт педагога, но вот…
— В таком возрасте? — Я проглотил горькую слюну.
— Ну, если перефразировать слова Пушкина, то в наши дни «учению все возрасты покорны». Возьмем хотя бы… — и он перечислил фамилии старых моих коллег.
— Боюсь, дочка станет смеяться… Поздно!
— Могли бы экстерном окончить школу, а еще лучше— педагогическое училище в машем районе. Потом поступить в институт заочником.
— Благодарю за добрый совет, но будем откровенны… Если я не гожусь далее для начальных классов… Пожалуйста, я не в обиде…
— Мы искренне сочувствуем… Но сами знаете: в Мугри уже тридцать семь человек с высшим образованием, а это выходит, что в одном нашем ауле больше педагогов, чем в целом вилайете Турции. Или возьмем…
— …даже более развитую страну… — перебил я. — Понимаю, я отстал, и следует уступить дорогу.
— Только без обиды! — Заведующий встал, протянул руку. — Да, ваш директор просил предложить вам работу, если, конечно, это вас устроит…