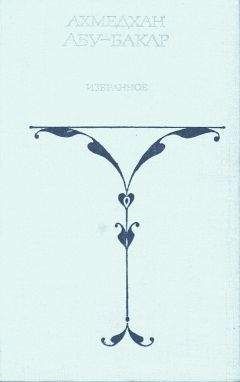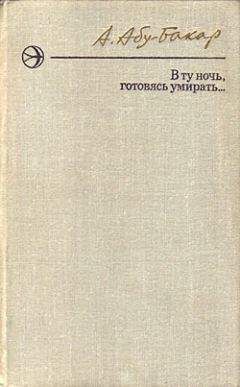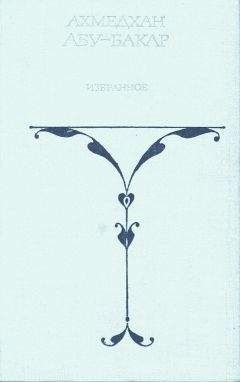— Неслыханно! Жестоко!
— Понимаю, но ничего не могу сделать. Все пропало! Сейчас приедут люди, чтобы исполнить приговор…
И впрямь вскоре подъехало еще несколько машин, и две из них были те, что поливают летом городские улицы.
— Вот и прибыла «техника уничтожения»! — съязвил кто-то.
— А спасти никто не подумал! — вырвалось у меня. — Неужели правда?
— Да, Мутай, да!
— Нет, нет, председатель! Это невозможно. Отмени!
— Не могу!
Председатель подозвал человека с обвисшими, как у старого зурниста, щеками и сказал:
— Проследи, чтоб ни одна овца, ни клока шерсти, ни грамма мяса не выскользнули отсюда. Иначе головой ответишь!
— За что?
— Если болезнь выскользнет отсюда, пойдешь под суд! Понял?
— Нет! Не дам уничтожать добро! Это же — наше, наш труд! — кричал я.
— Все решено!
— А я тебе верил, надеялся… Сожгите и меня вместе с ними!
Не помня себя, я выхватил кинжал.
— Приступайте!
— Нет! — завопил я и кинулся в отару с обнаженным кинжалом. — Я их зарежу. Зарежу!
Отара овец погибла… Те овцы, что были выносливее других, еще пытались искать траву, чтоб не умереть с голоду; иные ползли на брюхе, ибо ноги их больше не держали; третьи лежали на боку, четвертые умирали… Трупный запах стоял в лощине, и тучей, галдя, кружились над ней вороны. Отара погибла не только от болезни, но и от жажды — руками воды не натаскаешь, родник далеко, а дождевые лужи — не спасение. Дохли и от голода — не прокормишь отару остатками выбитой травы, а кормов нет… Даже лохматые волкодавы, казалось, были смущены этой картиной смерти.
И в этой обреченной отаре, как изувеченный зверь, метался я с окровавленным кинжалом и резал овец, не забывая повернуть их мордой к священной Каабе.
— Напрасно это затеял, друг! — сказал мой напарник. — Может, они вправе, ведь они ученые, им виднее, как с нами поступить…
— Не с вами, а с отарой, — возразил человек в очках, которому поручили составить подробный акт и который как раз расспрашивал чабанов.
— Приступайте! — крикнул председатель. — Зуб вырывают, а не тянут…
— А как же его?! — удрученный инспектор кивнул на меня.
— Успокойте и уведите.
— Как?
— Ну, заарканьте и свяжите!
— Это не входит в наши обязанности, — сказал инспектор и сжал пальцами нижнюю губу.
— А в мои обязанности входит?! — возмутился председатель и, видя, что никто не решается подойти ко мне, подошел сам. — Дядя Мутай, все равно, зарежешь ты их или нет, ничего не спасешь…
— Не хочу понимать! Ты обманул мои надежды…
— Нет, дядя Мутай, не надо осуждать меня. Пойдем отсюда.
— Не подходи. Не пойду.
― Брось, дядя Мутай!
— Отмени решение, председатель.
— Да ты пойми: нельзя из-за сотни овец рисковать тысячами. Лучше потерять палец, чем руку.
— Не подходи, убью! — я был взбешен.
— Не убьешь! — вдруг рявкнул председатель. — Не дури, старик! И без тебя тошно.
Наверное, почтенный Алибек, ты подумал тогда, что я потрясен потерей своих личных овец, которые были в той же обреченной отаре. Но честно скажу: тогда колхозное добро стало и моим кровным, до боли сердца было жаль и его, и своего труда.
Мой кинжал со звоном упал на камень, я схватился за голову, застонал, затрясся. «Не надо, дядя Мутай! — ласково сказал ты. — Пойдем отсюда. Пойдем!» И я побрел, переступая через камни и трупы овец.
И тут послышались голоса:
— Смотрите, смотрите! Что это?! Что они делают? Да это ж свиньи!
На опушке леса стадо диких кабанов затеяло неистовую пляску: подпрыгивали, кружились, словно котенок, когда ловит свой хвост, падали, поднимались, визжали, хрюкали, не обращая внимания на людей и даже на собак. Зоркий глаз ветеринара сразу заметил, что это не приступ непонятного веселья, а пляска смерти, что кабанов поразил тот же недуг.
— Проклятье! — сказал ты, Алибек. — Вот откуда взялась эта зараза.
— Не зря предки так назвали эту лощину.
— Расставьте людей по всем холмам, не пускайте сюда ни людей, ни животных. Установите строгий карантин. А здесь, если необходимо, жгите и лес со всеми его обитателями!
Ты, Алибек, сел в машину и уехал.
Разве я мог остаться и глядеть, как гибнут беззащитные овцы? Взял свои хурджины, выбросил из них все молочное, перекинул через плечо и побрел восвояси. И только на высоком перевале оглянулся и увидел, как в лощине Кабанья Пляска заполыхало пламя, пожирая все живое и растущее.
С колхозной отарой погибли и мои тридцать с лишним овец. И если колхоз все-таки получит страховку, то я не получу ни гроша: ведь личных овец нельзя держать в колхозной отаре. Даже пожаловаться на потерю можно только жене, да и то наедине…
Словно нарочно вернула меня судьба с полдороги к зимовке в аул, чтоб столкнуть здесь с другой бедой, пострашнее…
Осень в горах — пора свадеб, когда сельсоветы разбирают споры молодых — кому в среду, а кому в четверг ударить в барабаны. Желающих много, а эти дни издревле почитаются счастливыми. Поэтому сельсовет составляет списки, и очередь соблюдается неукоснительно, с той суровостью, с какой горцы соблюдают общественные интересы. Нарушить очередь может лишь несчастный случай в ауле, ибо, уважая горе соседа, горец не может ни бить в барабан, ни дуть в зурну.
Особенную свадьбу справили в ту осень родители моего молодого друга Сурхая. Что ж в ней особенного, спросите вы. Да уже хотя бы то, что молодой врач женился тоже на враче, человеке с высшим образованием; радовался весь аул, да еще понаехали из других аулов гости; жених — сын простого чабана, такого, как и я, а невеста — дочь бухгалтера. Столы ломились от угощений, вино лилось рекой, но народ собрался не просто разделить трапезу и наполнить пустые желудки, как бывало прежде, а порадоваться, пожелать молодым от всего сердца дюжину детей, крепкого здоровья, веселья и счастья. Три дня играла лихая музыка. Давно я не видел столько крепких, нарядных парней и девушек! Правда, я редко бывал на людях, но в этот раз мне захотелось утопить свое несчастье во хмелю. С завистью смотрел я на лихих, задорных парней, что высекали искры каблуками. И как изменились люди, раньше даже молодые были хилыми, обиженными судьбой и болезнями, подслеповатыми, кривыми, горбатыми, хромыми, даже девушки прежде казались старушками. То косоглазые, про которых говорят: «один глаз — в горы, другой — в море», в мешковатых платьях; сколько раз только в брачную ночь обнаруживал молодой, что у жены одна нога короче другой, голова изъедена паршой и лысеет, то почти нет груди…
Жизнь для молодоженов становилась тогда невыносимой, и один из них уходил из жизни, чтоб не быть бременем другому… Ведь тогда редко женились по любви. Это высокое чувство возникало разве у одного из тысячи…
Впервые за долгие годы мне, старику, пришлось выйти танцевать на свадьбе Сурхая. Был я во хмелю и, танцуя, вспомнил, как приглашала меня танцевать на свадьбе в Губдене младшая дочь Али-Султана… Да, да, Амина!
И тут в круг танцующих вошел какой-то незнакомый гость, не моих лет, а моложе — примерно в ваших годах. Был он навеселе и, подойдя ко мне, чтоб я уступил место, и, как обычно склонив голову и заломив папаху, вдруг внятно произнес:
— Хватит, сын князя Уцуми, а то надорвешься!
Оглушенный, растерянный, остановился с поднятыми в танце руками, челюсть отвисла, кровь прилила к лицу, глаза расширились. Я взглянул на этого человека и почувствовал, что он заметил мое замешательство.
Уронив руки, медленно выбрался из круга. «Бежать, скрыться немедленно!» — мелькнуло в голове, но тут же перебила другая мысль: «Наверное, ослышался. Он молод; значит, мог знать меня только Мутаем из Чихруги…»
Нет, я не скрылся, не убежал, а сел в кругу на ковре, скрестив ноги и притворяясь хмельным; исподтишка поглядывал на незнакомца, что, заломив каракулевую высокую папаху, кружился в танце с той краснощекой девушкой, которая прежде пригласила танцевать меня.
— А лихо пляшет! — сказал про него соседу.
— Они все лихие танцоры, — отозвался сосед.
— Кто?
— Да ираклинцы…
— Слышал, слышал… А как его зовут?
— Это же Курт-Хасан, — коротко ответил сосед, усердно хлопая в ладоши. — Давай, Курт-Хасан! Давай! Хайт! Покажи мугринцам, почем фунт хурмы.
Я брал с деревянного блюда горячие курзе — горские пельмени — и ел, не понимая вкуса.
— А где он живет?
— Кто?! — удивился сосед. — А-а, заинтересовался Курт-Хасаном?
— Да нет… Просто такому танцору надо бы в наши горские ансамбли, что разъезжают по всему свету…
— Туда его не возьмут.
— Почему?
— Ну, во-первых, он не так уж молод… Ты говоришь о нашей «Лезгинке»?
— Да, да, знаменитой «Лезгинке».