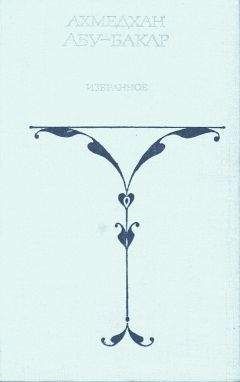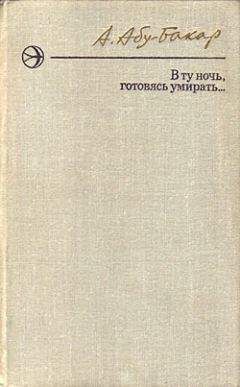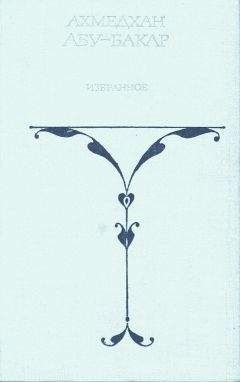А есть в ауле еще человек, которого зовут Курт-Хасан?
Есть. Сын моей единственной дочери.
— Сколько ему лет?
— Хочешь сказать: когда он родился? Как сейчас помню, дочь, рожая, сильно кричала, и, чтоб не слышать ее воплей, сосед Канна стрелял из ружья и выбил глаз муэдзину, что с минарета призывал правоверных к вечернему намазу…
— Но когда это было? Сколько лет назад?
— Я же говорю, когда наш сосед Канна…
— Хорошо, хорошо! — Я вытер пот со лба. — А кем он работает?
— Кто?
— Ну, ваш внук Курт-Хасан?
— Ты лучше спроси, кем он не работал? Вот только на луну не летал, а все остальное делал и дома, и когда был там…
— Где?
— Ну, что тебе надо от него?! — Мышиные глазки старухи вдруг с подозрением меня оглядели. — Все равно не скажу худого о моем внуке! Ишь какой любопытный… Хочешь выпытать, сколько лет он был в Сибири и что там делал, да?
— Я ж об этом не спрашиваю.
— Хоть и спросишь, все равно не скажу.
— А за что его посадили?
— Ни за что ни про что. Никого не убивал, никого не грабил, тихо-мирно жил в лесу…
И тут молнией блеснула догадка: наверное, он из тех, что были в Апраку с Казанби, а потом сдались Омару!
— Он сейчас дома?
— Откуда мне знать, где он! Не видишь: из района возвращаюсь…
— Что купили?
— Телевизор купила, вот что! У всех есть, а мы что, хуже других, что ли?! Или глаз у нас нету, чтоб смотреть на игру чертей? Ишь какой нашелся!
— Зачем же сердиться?!
— Как не сердиться, если битый час торчу посреди дороги из-за твоей болтовни! Ох, и развелось же болтунов на свете!
И старуха заковыляла за своей арбой дальше.
А я забрел на птицеферму, что была невдалеке, и спросил, где может быть Курт-Хасан, «мой дальний родственник»? Мне ответили, что он не работает в ауле, а вон за той скалистой горой укрепляет железные опоры и тянет провода для высоковольтной линии.
Нелегко старику тащиться в такую даль, но я не мог успокоиться: то ли инстинкт самозащиты, то ли слепой страх гнал меня, невзирая на усталость. Я должен был взглянуть в глаза опасности!
Еще не сгустились сумерки в ущелье, когда перевалил ту скалистую гору и, будто случайный путник, прошел мимо, делая вид, что не замечаю и не интересуюсь им. Да, это был он. Со своим напарником в таких же ремнях с цепями, как у всех верхолазов, он укреплял на железных опорах какие-то фарфоровые чашечки. Его напарник, белобрысый русский парень, крикнул сверху:
— Эй, прохожий! Счастливого тебе пути! А нам, будь добр, оставь пару сигарет: положи, пожалуйста, вон на тот камень…
— Очень жалею, добрый человек: нету у меня сигарет. Не курю. Простите!
А сам подумал: но почему же я не курю?!
— Курящему от некурящего столько ж пользы, сколько шерсти на курином яйце! — проворчал Курт-Хасан.
И я ушел обратно в аул Мугри. А по дороге, в темноте, сорвался с узкой тропинки и упал, разбился! Меня нашли добрые люди, вызвали «скорую помощь», и врач Сурхай оперировал меня прямо на перевале Хабкай при свете фар больничной машины. До той поры я не верил ни лекарствам, ни хирургическому ножу, а врачей, выражаясь по-дореволюционному, считал «поставщиками кладбища ее величества смерти»… После случая на перевале Хабкай пролежал дома недели три и все время, признаться, ожидал, что вот-вот откроется дверь, войдут некие люди и скажут: «Эльдар сын князя Уцуми, именем закона…»
К моему удивлению, не вошел никто, кроме тебя, дорогой Сурхай.
«Неужели он еще не сообщил?! — думал я в удивлении. — Может, был занят срочной работой? Впрочем, зачем спешить, если жертва в твоих когтях и не может ни взлететь в небо, ни зарыться в землю… Отчего не позабавиться, как с пойманной мышью!»
Между тем, пока меня обуревали такие тревоги, наступил день, которого мы с Зулейхой так напряженно ждали: Эльмира с отличием защитила дипломную работу, о чем даже напечатали в газете. И темой моя Эльмира избрала, оказывается, поэзию певца Халила из Кайтага! Да, да, да, — того самого певца-импровизатора, чьи песни могли взволновать даже бесчувственный камень. Того самого Халила, что был ослеплен, а затем и отравлен за песни о моей матери. О судьбе певца моя дочь писала с такой болью и страстью, словно сама была очевидцем событий… Оказывается, ничто не забывает народ! И я получил невольную оплеуху от собственной дочери. О судьба человеческая! Воистину не знаешь, где утонешь, а где вынырнешь.
Домой вернулась Эльмира такой округлившейся и похорошевшей, что нас разом обуяли и гордость и тревога. Не скажу, что она стала первой красавицей аула, но новый, молодой Халил мог бы и ее воспеть, как мою мать. И не только воспеть, но и отдать за нее жизнь. Будто подменили нашу дочь: стала такой жизнерадостной, ликующей. Только одно оставалось непонятным: от кого у нее эта возбужденная увлеченность жизнью, ведь ни я, ни Зулейха не отличались большой веселостью.
Мы встретили дочь как подобает. Я старался не выдать своего состояния, чтоб не омрачить ее, будто светящегося изнутри, личика. Вот в этой самой комнате собрались все ее подруги — и те, что вместе учились, и те, что рано повыходили замуж и занялись работой в колхозе. До поздней ночи щебетали они здесь; показалось, будто весна со всеми ее радостями, с гомоном голосистых птиц, с яркими цветами, что цвели на платьях и косынках, заглянула в нашу молчаливую саклю. И среди десятков молодых голосов я уже через полчаса безошибочно узнавал такой нежный, бархатистый смех своей дочери…
А когда разошлись подруги, Эльмира весело закружилась по комнате, обняла мать и так поглядела на меня, что пришлось улыбнуться, хотя совсем отвык смеяться. Но девочка ничего не заметила.
— Вот я и дома! — воскликнула она. — А вы у меня такие хорошие, и совсем не изменились, ни чуточки не постарели, все такие же влюбленные…
Она будто песню пела. Уж не знаю, откуда взяла Эльмира, что мы «все такие же влюбленные»! Наверное, весь мир казался ей необычным, прекрасным, полным чудес и сказок… Иллюзии, что цветут недолго, как после дождя полукруг ярких цветных полос, прозванный радугой.
Из своего чемодана, необыкновенного, заграничного, из крокодиловой кожи чемодана, дочь вынула и подарила мне пушистый свитер, сказав:
— Это тебе, папочка! Чтоб не зяб…
И поцеловала старика. Признаться, чуть я не прослезился. Ну, откуда у них, современных девушек, эта доброта, ласка, чистосердечие? К горлу подступил комок восторга, даже не смог сказать «баркала». Дочь заметила и встревожилась:
— Что с тобой, папочка?! Я хотела получше, да денег не хватило…
— Да я не о том, доченька. Просто радуюсь, что ты такая славная… Прости, в день твоего рождения я, кажется, жалел, что родился не сын!
— Это ничего, папочка! Все почему-то любят только сыновей.
Матери она подарила неяркое темно-зеленое платье в темную полоску.
— А это, мамочка, тебе. Я же знаю, что ты любишь зеленый цвет.
— Спасибо, дочка! Спасибо, родная! — Зулейха обняла дочь и прослезилась.
— Ну что это: сделались сразу грустными?! Что с вами? А то и я сейчас заплачу… Что это вы, в самом деле! Будто не я вернулась, а привезли мой гроб…
— Что ты говоришь, дочка! Да отсохнет язык у того, кто желает тебе дурного, — запротестовала Зулейха и, тут же скинув старое платье, надела новое, и вдруг показалось, будто она помолодела и такой я впервые увидел ее в Апраку. Как мало нужно человеку, чтоб расцвести! Лишь немного ласки и уважения…
Ну конечно, я не смог удержаться: надел подаренный свитер. Эльмира даже запрыгала, закричала:
— Папочка, ой как тебе идет! Знаешь, на кого ты теперь похож? Ты похож на тренера нашей футбольной команды…
Бесконечно далекие слова — «тренер», «футбол», подумалось мне.
До поздней ночи дочь рассказывала разные городские истории, повествовала о том, как ездили всем курсом собирать урожай персиков в Хаджал-Махи и виноград в Таркама и Геджухе. («Эх, девочка! — подумалось. — Знала бы ты, чьи это были земли». Но другая мысль перебила: «Хорошо, что не знаешь. Для тебя вся земля народная, ваша, общая…») Рассказала, как хорошо отозвались профессора о ее работе, даже советовали поступать в аспирантуру.
— А это еще что такое «аш-пир-анд-ур»? — насторожилась мать. — Не нравится мне такое слово! Наверное, тяжелая работа… Нечего слушать чужих советов: у тебя есть отец и мать; могут, кажется, посоветовать дочери…
Долго и мило смеялась девочка, объясняя матери, что такое аспирантура. А потом обратилась ко мне, видимо решившись наконец сказать:
— У меня, папочка, очень-очень большая радость…
— И ты для нас большая радость, доченька…
Я провел рукой по мягким черным волосам, потрепал тугие косы.
— У меня другая радость…