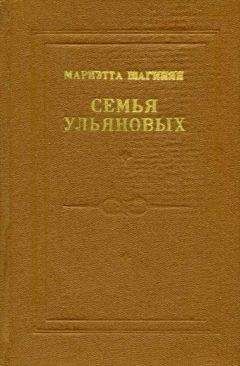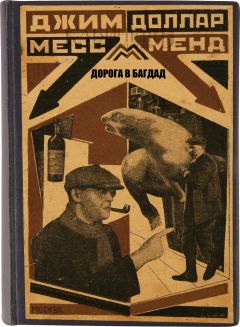Так и пропала бы их дружба в самые последние часы общения, если б не Выставка. Перед ними возник показательный объект № 12. Неизвестно, что думали строители, сооружая его, и думали ли вообще, но только у народных учителей он сразу прогнал все побочные думы и поверг их в недоумение. «Образцовая сельская школа» стояла на пустыре и, кроме здания, — ничего не имела. Четыре стены, восемь окошек, две двери да приколоченные сзади «удобства», — вот и весь образец… Двери с назначением: передние для учителя, задние для учеников. Ни вешалок, ни парт, ну ничего. Конечно, и такую построить в их местах — дело не легкое, здание вместительное. Но чего же тут показательного?
— Посмотрели? Идем теперь к шведам. У шведов народное образование поставлено очень высоко! — сказал Чевкин.
Шведы действительно отнеслись к Выставке очень серьезно. Школой своей они гордились перед всей Европой и привезли к нам все, что сочли полезным по-добрососедски показать нам. И то, что увидели народные учители, сразу растопило лед между ними и Федором Ивановичем. Шведы привезли всех сортов классную мебель, целую груду отлично отпечатанных учебников с рисунками, образцы тетрадок, географические карты, развесные картины, чучела птиц и зверей, коллекции минералов, гербарии, даже музыкальные инструменты. Ко всему этому был приложен сборник школьных программ на шведском, английском и русском языках. Стоящий у школьной мебели швед в синем рабочем фартуке и кепке, посмотрев на них, подал каждому сборник, отпечатанный по-русски.
— Гляди, гляди, — воскликнул Вася, засовывая руку в раздвижной ящик под партой, — для учебников место припасено! А здесь в луночке перья, карандаш, грифель! А у нас дай бог стол поставить, и чернильница не нарезная, стоит поверху, вечно в ней грязь, только и знай, бегают дети за тряпкой…
— Правильно, обратите внимание на культуру мелочей, — вмешался обрадованный их радостью Чевкин, — все есть, и стальные перья, и деревянные ручки для перьев — вместо наших гусиных, карандаши, ножички, а тут указано место для чернильниц. Посмотрите, сколько грифельных досок — для взрослых, для детей, для черченья, для арифметики, для нанесения географических карт. Эти красные линии и сетки останутся, а что вы мелом напишете — сотрется мокрой тряпкой.
— Для чего ж тут белые доски? — спросил Богодушный.
— Углем писать. Доски у них не только из шифера. Есть из жести, из картона… А столы складные, вся мебель разборная, — в одну минуту класс может их к стенке приставить, и вот вам готовый зал для гимнастики.
Молчаливый швед, видя их интерес, опять полез в ящик и роздал всем целые пачки цветных реклам. Он сказал что-то Чевкину сперва по-шведски, потом по-английски. Федор Иванович перевел: это все фирмы, где можно купить целую школу и вообще школьные предметы, — самые дешевые и самые прочные.
Когда они вышли из школьного отдела и Чевкин посмотрел на них своим прежним, любопытно-ласковым взглядом, он вдруг от души рассмеялся:
— Не огорчайтесь, друзья. Все это наживное. Сейчас нет — завтра будет. Если знать немного плотничье и столярное дело, самим можно сделать, раз принцип знаком. А вот при всем их превосходстве, заметили вы, какая купеческая жилка? Чуть что — реклама, фирма, адрес, — пожалуйте купить, хоть целую школу.
— Я бы еще как купил! — вздохнул Вася.
— А я бы, пожалуй, своими руками сделал. Это Федор Иванович правильно сказал: самим сделать, — возразил Ольховский. — Плохо не то, что нет, — беда, что инициативы нам не дают.
В другое время Чевкин ни за что не пропустил бы такое интересное, вызывающее на вопрос слова. Но если попасть к началу торжественного акта в Московском университете, надо было не то что идти, а прямо бежать бегом. И они дружно побежали по улицам, освещенным последним солнечным багрянцем. А вокруг Выставки, по всему ее обширному треугольнику, уже зажигались плошки и газовые фонари, засветились окна домов, и народным учителям, привыкшим к деревенской темноте, Москва показалась сказочным царством света. Сиял в огнях сверху донизу Большой театр. В нем в этот вечер дебютировала в «Жизни за царя» Эйбоженко, певшая Ваню. Подражая иностранцам, она мило картавила «отвойите!». Актовый зал Московского университета уставлен был кадками с лавровыми деревьями, гирлянды фонарей в виде белых шаров свисали с потолка. Их едва пропустили в зал, где уже начал говорить знаменитый историк, Сергей Михайлович Соловьев. Сочно и ярко он рисовал перед слушателями, переполнившими зал, картину Руси в XVII веке, — и это была страшная картина. «Чтоб не утратить права на историческую роль и принять участие в общечеловеческом развитии — Россия должна была принять от Запада результаты развития его наук и гражданственности…» — гремел историк. И дальше он перешел к гигантской фигуре Петра.
Как ни были утомлены народные учители, они слушали из всех сил, и видно было, что яркая речь Соловьева понятна им. Потом говорили о Выставке Давыдов и Делля-Вос, а последним взял слово профессор Щуровский, и опять все было удивительно понятно, прямо «как на заказ», шепнул кто-то из учителей Чевкину. Щуровский говорил о том, что русская художественная промышленность до сих пор находится в руках иностранных мастеров и это не может быть дальше терпимо. Вот почему открыты у нас Строгановское училище рисования, художественно-промышленный музей и предполагается открыть целый ряд рисовальных и воскресных школ….
— Всю жизнь бы сидеть да слушать, — прошептал Ольховский, охваченный общим одушевлением, царившим в зале.
Между тем Делля-Вос заметил среди сидевших Федора Ивановича Чевкина и сделал ему знак подойти. Когда Чевкин боковой дорожкой пробрался к президиуму и, ступив на лестницу, поднялся к Делля-Восу, Виктор Карлович шепотом сказал ему, что завтра совсем неожиданно прибывает группа иностранцев и что Чевкин, как гид, прикрепляется к ним на пять дней.
Народные учители выходили из университета тесной кучкой. Была уже ночь. Ради открытия еще горели яркие фонари вдоль стен Кремля. Но в густой черноте наверху заезд видно не было: тучи заволокли небо. Как-то по-городскому пахнуло на них близким дождем, — пылью, обметавшей улицу и поднимаемой вспышками ветра.
Чевкин уже сказал, что завтра будет у них другой руководитель, и хотел было проститься, но раздались протестующие голоса:
— Нет, Федор Иванович, никак нельзя! Весь день с нами возился и только кружку квасу выпил, — мы ведь все заметили, — ну никак, — и не возражай! Сейчас в гостиницу, кипяточку попросим, есть у нас хлеб, крутые яйца, лепешки, попьешь с нами чайку на прощанье…
Самой большой комнатой оказалась та, где устроился Богодушный с тремя другими, малознакомыми Федору Ивановичу учителями. В нее и набрались все остальные. Коридорный принес огромный медный самовар, чайник и десять стаканов. Заварили своего. Высыпали кусочки колотого рафинаду из мешка в тарелку, остальные тарелочки из-под стаканов заполнили снедью. Краюха хлеба лежала на скатерти. Чевкин, не протестуя, принял большущий черный ломоть, посолил его, облупил крутое яйцо, — никогда, кажется, еда и чай не показались ему такими вкусными. Главное же — он опять с этими милыми, ставшими ему близкими людьми, и облачко между ними растаяло. Весь этот день на Выставке был и для него необыкновенно поучительным, и странно, что не додумались ни газеты, ни журналы подать Выставку именно в таком свете: своей, русской техники маловато, заграничной больше, но это и говорит за необходимость обучения, заимствованья, нового крена в системе образования… И над всем этим — так вовремя — знак Петра! Он не успел, однако ж, предаться своим мыслям. Дверь со скрипом отворилась, и в комнату вошел Семиградов.
Он был в картузе, сдвинутом на самый затылок, от него слегка пахло вином, и выражение мелкочертого, суженного к вискам лица было самодовольно. Он сел на одну из кроватей, пристально воззрился на Чевкина и спросил, обводя их всех довольными подпухшими глазками.
— Ну как?
— А ведь спрашивать «ну как» не тебе, а нам. Выделился без спросу бог знает куда, а потом отвечай за тебя… Да уж не напился ли, Анатолий Онуфриевич? — Богодушный встал с места, подошел к Семиградову и потянул носом.
— Выпил рюмочку белой… Нельзя было иначе, Никифор Иванович, в ресторане полагалось сопричастно всей программе. И в общей цене стояло — хошь пей, хошь не пей. Ну я и выпил.
— В какой это ресторанте, позволь тебя спросить?
— На Выставке. Я ведь Выставку вдоль и поперек обошел. В Корсуни был в самом подземелье, где киевский князь Владимир крещенье принял. Действующую машину смотрел, как она пряники печет. Охотничьих псов и даже где китов наши моряки ловят… Катальщиков… — Он перечислил бы куда больше. В кармане его хранилось еще десятка два иностранных фамилий, записанных, покуда Семиградов ходил по Москве. Но едва он ступил на Выставку, критический дух оставил его. Выставка захватила так, что даже дыхание сперло. И окончательно покорил ресторан под иностранной фамилией «Гошедуа». Семиградов видел, что в ресторан этот проходят нарядные господа в цилиндрах, с дамами в пышных летних платьях. У дверей его стоял официант в белом крахмальном жилете и белых нитяных перчатках, принятый им сначала за главного гостя, поджидающего свою даму. Ресторан, правда, был построен на живую нитку, с необычайным легкомыслием, но об этом узнали только тогда, когда разразился над Выставкой летний ливень. А в этот первый солнечный день открытия все сияло на белоснежных скатертях. И меню… Семиградов снял свой картуз и, держа его в руке, прошел в ресторан вместе с элегантной публикой.