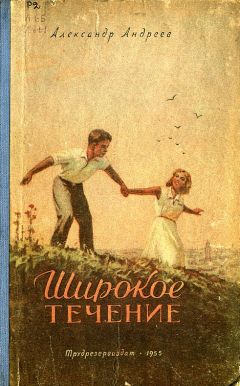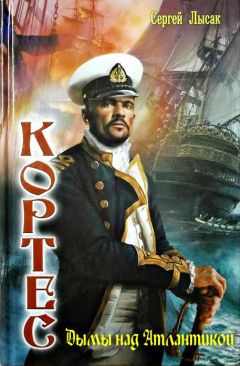Вечером, когда гостинцы были розданы, ужин закончен, Антон и Гришоня вышли на крылечко посидеть. Вернулся с поля сосед, старик с козлиной седой бородкой и в очках, Прокофий, — этакий деревенский мудрец. Он не раз бывал в Москве — выезжал за кардолентой для шерстобойни — и разговаривал обо всем осведомленно, со знанием дела. Затем, проходя мимо, завернул бригадир полеводческой бригады Николай Лёсов в военной фуражке с жестяной звездой и переломленным надвое козырьком. Сумерки сгущались, теплые, глухие.
— Эх, немота какая!.. — прошептал Гришоня, по-птичьи вертя головой.
— Да, тихо, — подтвердил Антон. — Ни гармошки, ни песни…
Старик блеснул на Антона очками.
— А кто их петь будет, песни-то? Гармонисты все в город подались. Вырастет парень, да и на сторону, только его и видели. Кто на учебу, кто на работу, кто просто улицы подметает. Вот вы и скажите; может земля жить без молодых любовных рук, без молодого разума? Нам, старикам, за всем не углядеть…
— Ну, дед, это вопрос большой, его сразу не решишь, — сказал Антон.
— А надо решать! — воскликнул Прокофий. — Надо скорей решать!
— Это верно, — подтвердил Николай Лёсов, закуривая папиросу. — Надо скорей. И насчет ребят правильно. В сельхозинститут проводили двенадцать человек. А назад хоть бы один стервец вернулся. На подсобных хозяйствах, видно, оседают, да в канцеляриях… Ни стыда, ни совести — срамота!..
— Это что! — заговорил опять Прокофий, оживившись. — А вот официанты в ресторанах там — чистые быки: здоровенные, мордастые, хоть в плуг запрягай. Зашел я однажды, днем. Стоят с полотенцами через плечо, поджидают гостей. Вот где срамота-то! На меня поглядели, как волки, пищу не подали, а швырнули, — видят сразу, что от меня им не отломится… А еще у меня встреча была, ребята. Вот это да! — Он засмеялся и покачал головой. — Иду я раз по улице, гляжу: человек снег с тротуара счищает. «Что-то, — думаю, — знакомый». Пригляделся поближе. Ба! Да ведь это Прошка Выдрин. Бригадиром у нас был. В позапрошлом годе уехал…
— Это который в магазине работает? — спросил Лёсов.
— В каком магазине? Дворник! «Неужто, — спрашиваю, — улицы подметать лучше, чем землю пахать?» Ничего не сказал Прошка, отвернулся и подался во двор…
Николай Лёсов после некоторого молчания сказал:
— Ничего, придет время — и вся эта «интеллигенция» о земле вспомнит, вернется… Должно прийти!
В отдалении одна за другой прошли две грузовые машины. Сильный рев моторов всколыхнул тишину, световые струи фар рассекли сумрак, явственно озарив крайнюю избу.
— Ваши? — спросил Николай Лёсов Антона, кивая на грузовики.
— Наши, — сказал Антон; он чувствовал некоторую вину перед этими людьми: вот он, здешний, сельский, а тоже уехал в город, правда, не сам уехал, а послали в ремесленное училище по разверстке, и не служил там официантом или дворником, а работает на крупном заводе, производит машины, которые нужны здесь так же, как хлеб нужен там.
— В каждом грузовике одна деталь нами откована, — добавил Гришоня немного хвастливо.
Старик похвалил:
— Сильные машины, ничего не скажешь. За это — спасибо…
С бугра спускались к дому еще двое: председатель колхоза, высокий, худой парень с тонкой длинной шеей и обросшим подбородком, и комбайнер, молоденький и робкий юноша. Они поздоровались с Антоном и Гришоней.
— На побывку, значит? Отдохнуть — это дело хорошее… А у нас, видишь, уборка началась, — известил председатель, присел на ступеньку и тут же встал, озабоченный, запаренный какой-то. — Горячая пора… Комбайн у нас остановился, вот беда! Вышел в поле да и стоит с самого утра. — Он потрогал щетину на подбородке, неуверенно взглянул на Антона. — Ты не мог бы поглядеть? И немудрящая частица сломалась, а запасной нет во всем районе. Ты бы не выковал?
Из сеней отозвалась мать:
— Погодили бы, чай, с просьбами-то. Дайте отдохнуть парню денек…
— Пусть отдохнет. Нам ведь не к спеху.
В словах председателя Антон уловил горькую иронию; он сказал поспешно:
— Завтра утром придем.
Почти неделю Антон и Гришоня работали в кузнице с утра до вечера — дел было много. Уставали. Гришоня ворчал, недовольный:
— Приехали отдыхать, а как отдыхаем! Оч-чень интересно торчать тут в дыму да копоти. Своей наглотался достаточно за год…
— Не ворчи! Останется у нас и на отдых, — утешал его Антон.
И вот они наступили, дни отдыха! Первое время Антону казалось, что он, как в сновидениях детства, отрывается от земли и с замиранием сердца летит в какую-то необъятную пустоту, в бесконечную синь. Тело ненасытно впитывало в себя благостную тишину, ароматную речную свежесть и солнечный зной. Там, в Москве, Антону думалось, что его надолго свалит мучительная усталость. Но с каждым днем отдыха он с изумлением ощущал, как удесятерялись в нем силы, наполняя душу радостным трепетом, и еще сильнее ощущал, что ему не хватает чего-то большого и важного — Тани Олениной.
Здесь, вдали от завода, на досуге, он все больше и больше думал о ней и понимал, что любит ее. Это чувство не было похоже на то, безрассудное и мучительное, затмевающее перед ним свет, которое он когда-то испытал к Люсе Костроминой; оно захватило его тогда, вознесло, а потом легко бросило наземь; кроме сознания унижения, ничего не осталось от того чувства. Любовь к Тане была более глубокой, хоть и спокойной внешне; она пробуждала в нем порывы, неведомые ему самому. Антон понимал, что она выше его, духовно богаче, и тянулся к ней с жадностью, со щемящей и сладкой болью. «Но полюбит ли она меня? Примет ли?» Он пугался этих вопросов, гнал их прочь. Задумчивые вздохи реки, запахи горячей земли, трав, далекие гудки пароходов, их тоскующие отзвуки среди мраморных, стволов березняка, широта, раздолье вызывали в нем другие думы, другие мечты; отсюда, издали, Таня казалась еще более прекрасной, любимой…
Любовь эта и уводила его от людей, даже от Гришони, в глухие углы, к интимному шопоту берез и сосен, где неиссякаемо хранился густой смоляной настой.
Он переплывал на ту сторону Волги, ложился на теплую и пахучую траву на полянке и, не шевелясь, зачарованно смотрел, как красавицы-сосны, вымахнув под самое поднебесье, покачивают пышными темно-зелеными кистями ветвей, как взбивают кипень облаков, живописно украшая ими синеву неба. На лодке переправлялся к нему и Гришоня, садился поодаль, читал книжку — последнее время он пристрастился к стихам.
— Слушай, Антон! — крикнул Гришоня. — Это вот про тебя написано, как по заказу. — И он нараспев прочитал с комическими ужимками, силясь понизить свой тоненький голосок до баса:
Если быка трудом уморят — он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей, мне
нету моря,
а у любви твоей
и плачем не вымолишь отдых.
Антон прислушался, уловив в этих словах отзвуки своих чувств и переживаний. Гришоня читал:
Захочет покоя уставший слон (ты, то есть), —
царственный ляжет в опожаренном песке…
Антон взял у него книжку и негромко, с волнением, повторил близкие ему, сильные, наполненные страстью и мукой слова большого и мужественного человека:
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем…
Антон не мог сидеть на месте, принялся ходить по траве, закинув руки за голову. Как это верно сказано; кроме любви твоей, мне мету солнца!.. А без солнца человек не может жить. Он посмотрел на Гришоню дикими глазами и засмеялся каким-то странным, счастливым смехом.
— Гришоня, я еду в Москву. Сейчас же!
Гришоня вскочил — в трусиках, похожих на юбочку.
— Ты что, очумел?..
— Да! Садись в лодку! — крикнул Антон, разбежался, кинулся в воду и поплыл.
Через несколько часов в проулке возле крыльца остановилась подвода. Сосед Прокофий вынес из избы вещи Антона и уложил их в телегу. Антон с матерью сошли с крыльца, — между ними все было обговорено.
— А может, пожил бы уж эту неделю-то, сынок?.. — сказала мать, печально и просительно взглянула на сына, хотя понимала, что просить уже поздно.
— Нет, мама. Я поеду. Прости меня, пожалуйста! Так надо, честное слово!
Мать вздохнула:
— Что ж, поезжай. Если надо, так уж надо…
Гришоня не хотел прощаться с Антоном, осердился, даже с крыльца не сошел.
— Я ведь знаю, зачем ты едешь. Шальная твоя голова! — крикнул он отчаянным голосом.
— А знаешь, так помалкивай, — предупредил его Антон.
Ариша подергала Гришоню за рукав, спросила топотом:
— А она красивая?
— Мне не легче оттого, что она красивая, — ответил Гришоня чуть не плача и отвернулся. Он не видел, как подвода выехала из проулка и скрылась за углом.