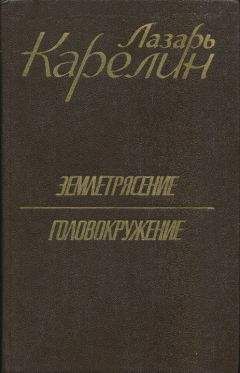Спустились по мраморным ступеням на первый этаж, примечая множество мелких мелочей, кричавших им: «Провалились! Провалились! Провалились!» Казалось, сам воздух министерский кричал им это. Пустота на лестнице, пустота в коридоре, хоть и шли навстречу люди. Шли‑то шли, но не заговаривали, но отводили глаза, но сворачивали в сторону. Этим людям казалось, что они деликатны, чертовски деликатны, а они стегали, они ранили своим напускным безразличием, они были капельками крови на рельсе.
Навстречу кинулся Птицин, он их ждал возле раздевалки, всё время был тут, пока шла приёмка картины. Он все знал, конечно. Но он был не сторонним в этой истории, хотя сам‑то почти ничего не терял от провала фильма. Он ещё раньше все потерял. Но он так не думал сейчас. Он горевал вместе со всеми. И, смешно, ещё на что‑то надеялся, когда бежал им навстречу. А вдруг да ему наврали, не так и не то сказав.
— Ну, шер ами, водку будем пить или шампанское?
— Водку, — сказал Денисов.
— Ясно… — Птицин поцик, отлетела надежда.
Вышли во двор, миновали проходную, где и вахтёры уже все знали, сидели потупившись, вышли в Гнездниковский, двинулись по нему на улицу Горького.
Улица Горького, улица Горького — дорога славы и бесславия киношников всей страны. Нет такой съёмочной группы, которая бы не продефилировала этой улицей от угла Гнездниковского и до гостиницы «Москва» в день сдачи своей картины министерству. Путь недолог, идут пешком. Идут либо счастливые, либо поверженные во прах. Прохожие узнают иных из актёров, иных из режиссёров. Избранники судьбы, любимцы публики. И верно, иной раз избранники, но иной раз парии.
Сейчас по улице шли парии. Шли изверившиеся в себе люди, павшие духом, разобщённые, с единственной всего и сверлящей мыслью у каждого, злой, коротенькой, безнадёжной. Но, собственно, на что они могли рассчитывать? А на что рассчитывает бедняк, покупающий облигацию трёхпроцентного займа? На выигрыш, на удачу. Светящийся плакат над площадью Пушкина обещает ему сто тысяч!
— Надо послать телеграмму на студию, — сказал Денисов. — Хватит тянуть с этим.
— А не повременить ли? — сказал Птицин. — Может, утрясётся как‑нибудь, рассосется… — Убеждая, он так склонил голову и поднял плечи, словно был громадной птицей, собравшейся спрятать голову под крыло. — Обойдется… Уляжется… А?
— Не утрясётся! — резко сказал Денисов. — Разве что расползётся!
— Не с него спрос, вот и болтает, — недобро глянул на Птицина Углов.
— Стоп, стоп, господа! Сейчас мы все перессоримся! — Бурцев раскинул широко руки, как Спаситель на кресте или милиционер на перекрёстке. — А нам что надо? Нам надобно нервы беречь. Поделюсь секретцем. Случилась неприятность, так? Не вдумывайся, не паникуй. Запри в себе все мысли — и бегом в ближайшую забегаловку. И залпом двести граммов. И все! Нет никакой неприятности! Она ушла в туман. Она где‑то там, далеко, далеко, она не страшная. В итоге нервы разжались, их ничто не терзает. — Старик усмехался, взмахивая ручищами, не поймёшь, шутил или всерьёз говорил, усмехался, лукавый, многоопытный. — Вы знаете, я не пьяница, но в трудные минуты и для убережения нервных клеток… Словом, вон через улицу дверь в прелестнейшее кафе «Отдых». Милости прошу, лекарство за мой счёт.
Лукавый, бывалый старик. Эх, если бы ему ещё таланта побольше, злости, что ли! Если бы он был всё-таки кудесником!..
Возглавляемые Бурцевым, пересекли улицу, ввалились в кафе. Уже с порога Бурцев принялся распоряжаться властным голосом режиссёра, которому не перечат. И ему не перечили. В этом с иголочки и чопорном кафе девицы в наколках, прибранные, как невесты, радостно забегали, исполняя его режиссёрскую волю. Здесь не подавали водку, а только коньяк. Подали водку.
— Поехали! — гаркнул Бурцев и стоя проглотил свою чашу забвения.
И все последовали его примеру. Выпили и стали смотреть, что делает старик. Он не закусывал, он напряжённо вслушивался в себя. И все стали вслушиваться. Вдруг старик расплылся в улыбке.
— Тума–а-ан! — протянул он радостно.
Верно, пришёл туман. Леонид и Денисов переглянулись повлажневшими, подобревшими глазами.
— А все‑таки кудесник! — сказал Денисов.
Только теперь все сели к столу.
13
Давно уже было покинуто кафе «Отдых», перекочевали в кафе «Националь», ушли и оттуда. Все так, все по той же тропе, которой следовали все съёмочные группы, сдавшие свои фильмы. И те, кто схватил удачу, и те, кто провалился. Но разница была в том, что удачливые были счастливы, а неудачливые загоняли себя в туман. Лишь в этом и разница.
Из «Националя» выбрались большой компанией. Шло время, сгущался туман, и Птицин все чаще бегал к телефону, обзванивая разбежавшихся от позора по своим углам членов группы, и с каждым звонком оптимистичнее становились его толкования случившегося.
И люди стали выползать из своих углов и съезжаться на пир, понимая, что Птицин подвирает спьяну, но с готовностью поддаваясь обману.
Приехал директор картины со смешной фамилией Шкалик, тем более смешной, что он не пил, трясясь над своим здоровьем. Это вообще был занятный человек. У него были аристократические повадки и заячья душа. А он и не скрывал, что всего боится. Он полагал, что это не заяц в нём обосновался, а некий мудрец по имени финансист. Шкалик считал себя крупным финансистом.
Приехал Гриша Рухович, где‑то уже хвативший. Для равновесия, как он пояснил. Не было с ними только Марьям. Птицин не раз порывался позвонить ей, но Денисов хмурился и запрещал.
И вот они снова на улице Горького, но вечерней, в огнях. День прошёл. Что за день! Не вспомнить, он в тумане. Да и незачем вспоминать. Собственно, вся мудрость жизни в том и состоит, чтобы жить минутой. Не правда ли? Вот дом весь в огнях, громадная гостиница, вобравшая в себя тысячи людей. И среди этих тысяч — Марьям. Одно из светящихся окон — её окно. Она там, она ждёт. А почему бы и не зайти к ней? Жена где-то отсюда через пять кварталов. Молва страшна? Чепуха всё это! Глупость! Живи минутой. И вот теперь Денисов стал поводырём и повёл всех через улицу. Он помалкивал, но все знали, куда он их ведёт, к кому.
Ждала ли Денисова Марьям?.. Весь день просидела безвыходно в своём номере, вздрагивая на каждый шорох за дверью, молилась аллаху, чтобы зазвонил телефон, зло плакала без слез, металась по комнате, кусая ногти и губы. Но вот распахнулась дверь в её номер, на пороге встал Денисов, а за ним сгрудилась вся его компания, и они увидели Марьям в кресле, спокойную, безмятежную, только что дремавшую.
— Ах, это вы?..
Ждала ли она? Нет, конечно. Но раз уж пришли, она рада гостям. Вскочила, свела ладони.
— О, да вы пьяные! А мне захватили?
На Денисова она не смотрела. С Денисовым у неё ещё будет разговор. Он измучил её, она помучает его. И на Птицина не смотрела. Раб не смел так долге не появляться.
Все внимание Марьям отдала Бурцеву. Подбежала к нему, трепетно взяла за руку, повела за собой, отыскивая в комнате самое удобное для него место. А комната эта была сейчас не обычным гостиничным номером, заставленным громоздкой, угластой мебелью, а чем‑то вроде шатра. Множество платьев, которые Марьям привезла, слишком ярких, цветистых, не для Москвы, она набросила на спинки стульев, обернула в них подушки. Посреди стола, прямо на скатерти, расползлась гора из миндаля, урюка, фисташек. Казённый графин с водой перекочевал на пол, стоял у дивана, как сосуд с шербетом, а на столе водворились пиалы и чайник. Казённое покрывало с кровати было отброшено, кровать была покрыта шёлковым узбекским халатом. И пахло в этом номере не пылью и туалетом, а сушёной дыней — запахом сладким, чуть дымным, из восточной сказки.
А Марьям, сама она в своём простеньком домашнем платьице, в тапочках и с косами, какие заплетают, когда не сделана причёска, сама она снова стала дочерью царя из царей Индии.
— Красавица, красавица, — растроганно сказал Бурцев, усаживаясь в кресло. Он нагнул седую косматую голову, целуя ей руку. — Прости старика… Подвел…
— Не нужно об этом… Эй, кто‑нибудь, налейте мне! — Не оборачиваясь, она завела руку с пиалой за спину.
Кто‑нибудь — это был Птицин — с официантской сноровистостью подбежал с бутылкой.
Не глядя, что он ей налил, Марьям поднесла к губам пиалу и стала пить, вздрагивая тонкой напрягшейся шеей. А выпив, отошла к окну, упёрлась лбом в стекло и долго смотрела в огни чужого города, громадного города, который не пожелал подарить ей удачу.
К ней подошёл Денисов, обнял её и тоже упёрся лбом в стекло.
Они не разговаривали, но они позабыли, что не одни в комнате. Всем стало ясно, что о них позабыли.
Первым и на цыпочках пошёл из номера Птицин. Он и по коридору сперва шёл на цыпочках.
В вестибюле, когда все туда спустились, кто с каким лицом — кто с ухмылочкой, кто помрачнев завистливо, кто захмелев ещё больше, — когда попрощались и стали расходиться, Бурцев придержал за локоть Леонида.