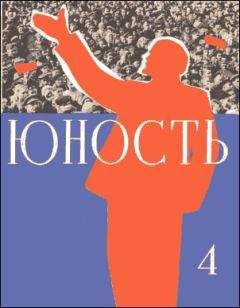— Не надо! — испуганно сказал Харлаша. — Я виноват, мне и стыдно.
Он сгорбился еще больше, точно в него молния ударила, почернел, схватился за край стола, вслепую сел на табуретку.
— Я ему какой-то тайны не раскрыл. Я ему много тайн берег. Как низовка косяки держит, знаешь? Как хамса задкует? От других крепко прятал, для него. Не то, не то! Говорил, степь — для хлеба, холмы — для деревьев, а как я жил и живу, передать не успел! Думал, не надо
— Тайны твои, — глухо сказал Карпов, — про хамсу да ветер низовой и не тайны давно. Их сейчас все мальчишки знают.Тайна у тебя одна. Про письма. И той нет.
— Что же мне делать? — жалобно спросил Харлаша.
— Жить будешь у меня. Или у матроса, как хочешь.
— Нет, — горько прошептал Харлаша, едва выдавливая из себя слова, — С ним что делать? И ты не знаешь?
Размахнувшись, Харлаша сбросил со стола бутылки, словно не рукой, а плетью ударил по ним. Звякнув, они полетели вниз, и темная струя завилась по полу и стала лужицей в углублении. Из-за комода выполз кутенок, подтопал к лужице, понюхал, странно пискнул, не открывая рта. Харлаша поднял его на руки, прижал к груди гладкими, как культяпки, пальцами с шишками на концах, со сбитыми большими ногтями.
— Уходи, Егор, — сказал он Карпову.
Карпов натянул фуражку, потоптался, грохнул, уходя:
— Смотри, слезьми умоешься!
— Оботрусь, — сказал старик и заплакал.
Кутенок лизал его гладкие пальцы, а он шептал:
— Вишь, какие, на гитаре ими не сыграешь!
Потом покормил его с руки хлебом, размоченным в молоке, и уложил спать.
И сам улегся.
Ночь все выла, все хлопала оконными створками. В грохот, в вой ее тихо вплелся тоненький голос: «О-о-о!» Сначала Харлаше показалось, что в море песню поют. Ветер летел на скалу и нес к ней комариное, ласковое, иглою лезущее в сердце «О-о-о!». Видно, начал с ума сходить старик.
Вдруг страшная догадка согнала дрему, и он приподнялся на локтях, Долго ничего не было, потом снова повторилось.
И еще через минуту Харлаша скатывался, ссыпался вниз со скалы, к лодке.
Из черной бешеной ночи, из мокрого ветра, из ревущей воды вытащил Харлаша двух подростков и молодого белокурого парня, оказавшегося младшим братом председателя соседнего (Опасненского) колхоза Игната Разуваева.
— Тебя как звать? — спросил старик, когда продрогших, обессиленных, синих от холода и страха мальчишек подняли в дом.
— Федор, — отжимая рубаху на плечах, ответил молодой Разуваев.
— А-а!
Харлаша о нем слышал. Этот Федор уже плавал на сейнере, но чем-то проштрафился и теперь выгружал рыбу из ставных неводов вдоль берега.
— Какая ж радость тебя нынче в море понесла? — спросил Харлаша, доставая табак.
— Испугался, сеть сорвет. — Сейчас, когда опасность миновала, зеленоватые глаза Федора озорно блестели, и он рассказывал легко и даже весело: — Как пошел на нас девятый, я встал, слышу, будто воздух поплотнел и прет на очи. И ребята встали. Я кричать: «Майнай, ребята!» Поздно. Вмиг приподняло нас и перевернуло. Раз подплыли к лодке — отбило! И так три раза. Тут увидел я огонек в доме, мысль у меня явилась, что спасут. Давай кричать!
Подростки отогревали друг друга на постели, свернувшись под одеялом калачами.
— Ты об них подумал, когда за сетью кинулся? — спросил Харлаша. — Это ж чьи-то сыновья!
За спасение ребят рыбаки Опасного мыса решили подарить Харлаше патефон. Так им Карпов посоветовал.
И вот они привезли новый патефон в малиновой пупырчатой оклейке под кожу и две коробки пластинок.
— Щедро, — заметил Карпов и послал проверить, дома ли Харлаша.
Но Харлаши дома не было. Кто знает, куда его могло унести в солнечный осенний денек, сверкавший на дворе.
— Да вот он ковыляет! — первой увидела его из окна Надя. — Харлаша!
Цыплячий выводок громко зацвенькал под окном в ответ.
— Не слышит старик, — сказал матрос, стоявший возле жены.
Тут, в правлении, много людей собралось сегодня.
Харлаша остановился на обрыве, к которому подбегала сельская улица. Он стоял лицом к морю... Смотрел на волны или просто грел в лучах солнца старые глаза, прикрыв их веками.
Море сверкало, как жестяное; пробеги — загремит. Чайки мерцали над ним.
— Совсем он съежился, — сказала про Харлашу Надя.
Он носил теперь вытертую кожаную ушанку, овчинную тужурку с коричневыми клочьями точно бы прокуренного меха, тяжелые, в непоправимых морщинах сапоги.
Хорошо было ему стоять так, у моря. Край здесь ветреный — телеграфные столбы и те накренились, а сегодня тихо, ясно.
Вот он повернулся, пошел по улице, мимо ржавых после дождя деревьев.
— Сыну его всем миром писать надо, — сказала Надя.
— Я конверт с адресом прихватил, — ответил Карпов. — Да ведь тут вопрос, как писать, каким он приедет, чтобы старичка не обидеть.
— Писать — пустое дело, — вмешался в их разговор матрос. — Я скатаю туда, я его привезу, какого надо, можете не сомневаться.
Надя, помедлив, добавила:
— Пусть увидит, что его отец давно с патефоном. Харлаша!
На этот раз старик услышал, улыбнулся ей, вошел в дом.
Пластинки в коробке были разные, и чуть ли не все их проиграли старику. Тут было два симфонических концерта, бодрая песенка «Веселый день», арии, частушки, трио баянистов и, наконец, два романса под гитару. Харлаша слушал, вздернув голову, поджав губы. И пластинки матрос менял тихонько, чтобы не мешать ему. Гости с Опасного мыса сидели радостные, улыбались.
Наконец старик встал.
— Хорошая музыка, — сказал он с легким поклоном и пошел к двери, натягивая на ходу треух.
— А патефон? — зычно спросил Карпов.
— Какой патефон? — ответил Харлаша. — Чегой-то вы? Не надо ничего. Зачем? Не возьму. — Он вышел и старательно закрыл за собой дверь.
Матрос опустил малиновую крышку патефона.
— Опять ошибку дали? — сердито спросил Карпов. — Ушел!
Может, Харлаша считал, что за сделанное им не берут подарка.
Может, так загордился, что отказывался от людского добра.
А может, больше всего на свете боялся, как бы у него не отняли ожидания.