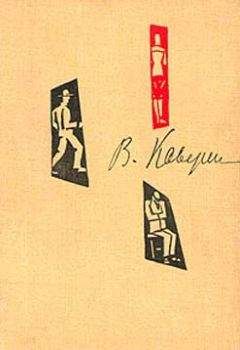Окна были открыты, и за пулеметами в неясной, беловатой отмели стекла на фоне Дворцовой площади девятнадцатого столетия маячила Дворцовая площадь двадцатого, перегороженная высокими штабелями дров, отмеченная всем беспорядком будущего плацдарма.
— Каков строй! — быстро сказал кто-то над самым ухом прапорщика. — Каков строй! Вот это, извольте взглянуть, русская армия!
Прапорщик обернулся и отступил в сторону: это говорил невысокого роста человек с начинающей лысеть, коротко остриженной головою.
— Капитан Воронов, к вашим услугам.
— Прапорщик Миллер, — сказал прапорщик, слегка отворачивая голову, чтобы не чувствовать едкого запаха спиртного перегара.
— Может быть… большевик?
— Если бы я был большевиком, мое место было бы не в Зимнем дворце! — запальчиво ответил прапорщик.
Капитан качнулся, прикрыл глаза.
— Ну и что же, теперь среди прапорщиков сколько угодно большевиков. Да и не в большевиках дело! Дело в том, что лучшие традиции русской армии пошли прахом. Посмотрите на юнкеров! Будущие офицеры, а есть среди них хоть один аристократ? Защитники отечества! Любой солдат может без всякого труда попасть в юнкерскую школу. Нет, к дьяволу, к дьяволу!..
— Каждый солдат такой же гражданин Российской республики, как и вы, господин капитан, — сухо отвечал прапорщик.
— Правильно! — весело закричал тот, приподнимаясь на носках и с пьяным удовольствием разглядывая своего собеседника, — не спорю, милый молодой друг… Только знаете ли что! Нужно бежать отсюда… Мы еще не сыграли нашей партии, но… но, может быть, лучше ее и не начинать? Послушайте, я хочу поделиться с вами оригинальнейшей мыслью. Она заключается в том, что у каждого человека есть своя судьба, свое, так сказать, место в истории. Так вот, существуют счастливцы, у которых эта судьба выходит на все десять десятых. Вы знакомы с поручиком Кузьминым-Караваевым?
— Нет.
— У этого человека… Ему все удавалось. А у меня, прапорщик, только девять десятых. Да. И у вас. И у нашего… — он выругался, — премьера. Одна же десятая, последняя и, быть может, самая счастливая, утеряна безвозвратно.
Прапорщик молча отвернулся от него и подошел к окну.
На площади, неподалеку от главного входа в Зимний, стояли в строю три роты юнкеров в длиннополых шинелях. Высокий энергичный человек говорил им что-то, упрямо наклонив голову, сдержанным и коротким движением выбрасывая вперед правую руку.
Сквозь открытое окно до прапорщика долетело несколько фраз:
— Мятеж большевиков наносит удар делу обороны страны… Необходимо вырвать наконец почву из-под ног большевизма… В ваших руках спасение родины, республики и свободы…
Юнкера с металлическим стуком взяли винтовки на плечо, беглым шагом перешли через площадь и исчезли под аркой штаба.
— Тяжело! — сказал за его спиной тот же пьяный голос, — не то что-то, не то все. Пустота какая-то вокруг, прапорщик!
4
— Десять человек в комнату семьдесят девять! Немедленно.
Военный, с красной повязкой на рукаве, появившийся на пороге комма гм, в которой прибывающие красногвардейские отряды устроили что-то вроде штаба, исчез так же быстро, как появился.
Из коридора на мгновение донесся шум, топот, гуденье, — дверь захлопнулась, и все стихло.
— Очередь пятому десятку! — весело прокричал мальчишка лет шестнадцати и застучал винтовкой об пол. — Лангензиповцы поперли! Ракитов, вставай, ляжки повытрешь!
В длинных сводчатых коридорах грохочет толпа. Повсюду толпа — на лестницах, в белых высоких комнатах, в тусклых залах, разрезанных вдоль рядами массивных колонн. Рабочие в длинных блузах, солдаты в изношенных серых шинелях и папахах — готовые двинуться вперед по первому приказу — ждали этого приказа на лестницах, в залах, в коридорах Смольного.
В комнате семьдесят девять длинноволосый человек в очках, с утомленным лицом, мельком оглядел красногвардейцев и ровным голосом отдал приказание:
— Вы отправитесь на Марсово поле, к Троицкому мосту. Нужно установить засаду. Держите связь с Павловским полком на Миллионной. Пускай выделят заслон от полка.
Он взял со стола бланк со штампом Военно-революционного комитета.
— Десять человек. Так. Кто начальник десятка?
Маленький красногвардеец в огромной мохнатой папахе выступил вперед:
— Сепп.
— Григорьев.
— Ракитов.
— Иванченко.
— Дмитриев.
— Давыдов.
— Любанский.
Человек в очках поднял голову от бумаги, которую он писал, сдвинул очки на лоб и закричал:
— Тише, товарищи! Не мешайте работать! Мне ваших фамилий знать не нужно…
На одно мгновенье наступило молчание, вслед за тем резкий голос сказал коротко:
— Шахов.
Красногвардейцы оборотились; высокий хмурый человек отделился от стены и шагнул к столу.
— Одиннадцать, — машинально подсчитал человек в очках.
И сердитым жестом остановил начальника десятка, начавшего было говорить о том, что этот человек не принадлежит к их отряду.
— Неважно, товарищи! Тем лучше. Лишний человек не помешает!
Он приложил печать и подписал наряд.
Маленький красногвардеец аккуратно сложил бумагу и засунул ее в папаху.
— Неважно, — пробормотал он, искоса и с подозрением оглядывая Шахова, — как это неважно? А почем я знаю, что это за человек? Неизвестно… А может быть, он, сукин сын, сам Керенский?
И он повел свой маленький отряд по длинному коридору.
Шахов добрался наконец до лестницы, потеряв по дороге всех своих товарищей.
Некоторое время он видел еще мелькавшую в толпе удивительную папаху Сеппа, но папаха двигалась с подозрительной быстротой, и он наконец потерял ее из виду.
Хватаясь за перила, он спустился по лестнице и вдруг неожиданно для самого себя вылетел в сад перед Смольным.
Страшный грохот оглушил его.
Огромные серые броневики, украшенные красными флажками и завывавшие своими бешеными сиренами, автомобили, задохшиеся, как загнанные псы, люди в солдатских шинелях, в матросских бушлатах, волочащие по земле ящики с наганами, разгружающие грузовики с винтовками, — все двигалось, шумело, сплеталось.
Готовый к отправке грузовик стоял немного в стороне, под деревьями, содрогаясь от работы мотора.
Солдаты и красногвардейцы снизу вбрасывали в его коробку пачки газет и листовок.
Шофер стоял на сиденье и изо всех сил махал в сторону Шахова руками.
— Сюда, сюда! — различил Шахов.
Он сбежал со ступенек и пробрался к грузовику.
— На Марсово поле? — крикнул он.
— Да, да, — отвечал шофер, не расслышав.
Десять рук протянулись к Шахову, грузовик дрогнул, откатился назад, сразу взял такую скорость, что красногвардейцы с хохотом попадали друг на друга, пролетел мимо наружной охраны и помчался по Суворовскому проспекту.
Огромный молчаливый рабочий первый сорвал обертку с пачки, валявшейся под ногами, и начал бросать газеты, листовки, воззвания в воздух, — через несколько минут грузовик мчался по улице, оставляя за собой длинный хвост белой бумаги.
Прохожие останавливались, чтобы поднять их, — одни комкали в руках и рвали, другие бережно прочитывали от первого до последнего слова.
Было два часа пополудни, и эти листы газетной бумаги пока были единственным оружием, которое пустила в ход революция.
Время от времени обмотанные пулеметными лентами с ног до головы люди вылетали как из-под земли, крича: «Стой!» — и поднимая винтовки, — шофер не обращал на них ни малейшего внимания.
— Садитесь, здесь есть место, товарищ, — сказал кто-то за спиной Шахова.
Он обернулся и увидел четырехугольное, поросшее седой щетиной лицо красногвардейца, предлагавшего ему сесть рядом с собой на свободное место.
По непонятной связи воспоминаний он теперь только понял, что грузовик все время идет не по тому маршруту, по которому он, Шахов, должен был отправиться согласно приказу человека в очках из Военно-революционного комитета.
— Куда мы едем? — прокричал он шоферу.
— Застава у Исаакиевской площади! — прохрипел, не оборачиваясь, шофер.
— Да ведь мне же не туда нужно! — снова прокричал Шахов и в отчаянии стукнул шофера кулаком в спину.
— Уйди, — прохрипел шофер.
Грузовик покатился с бешеной быстротой, сотни листовок сразу полетели в воздух, улица позади кишела нагибающимися людьми.
Прыгающее четырехугольное лицо оборотилось к Шахову: — Куда ж тебя посылали?
— К заставе у Троицкого моста.
Красногвардеец посмотрел на него пристально и положил руку на плечо.
Шахов едва расслышал в стуке мотора и неистовом грохоте колес:
— Ладно, брат, нам повсюду хватит работы!
5
Все, что произошло в этот стремительный день, все, что видел он и что понял наконец с ясностью почти болезненной, было неожиданным для Шахова.