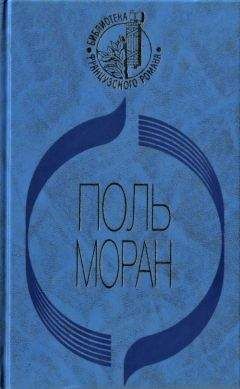— Плевал я на моду! — воскликнул Женя. — Я не о моде… извини, старик. Сегодняшняя урбанизация хороша бытовыми удобствами. Но рационализм современного градостроительства имеет один неожиданный нюанс: у нас притупляется чувство органичности города.
— Но разве нет органичности в новом городе, который рос и подымался от первого колышка до последнего высотного дома? Тут и своя логика, и последовательность.
— В том-то и штука, что город сегодня появляется вдруг, как воплощение раз и навсегда принятого задания. В нем все с иголочки, все так, как и положено быть сегодня, в нем живешь как в костюме, купленном навырост. В стилевом однообразии новых городов отсутствует временная многомерность. Глаз скользит по трафарету плоскостного стандарта — ему не на чем остановиться в напряженном сопоставлении, сравнить, удивиться, вспомнить. Современный город не складывается сам по себе, неумышленно, что ли, в той необязательности, которая в конце концов проявляется как естественность жизни…
— Если бы вся твоя жизнь была связана с Маленьким Городом, — сказал я, — ты любил бы его чуть меньше.
— Только не старайся удивить меня парадоксами, — ответил Женя, — я не вижу в твоих словах никакого парадокса. Тем более что ты, как я догадываюсь, выходишь за сферу градостроительства.
— Все дело в том, — сказал я, — все дело, наверное, в том, что городок, его исторические кладбища, где похоронены мои предки, для меня совсем не история…
— Продолжай дальше: здесь все живо, пульсирует, кровит даже. История как раз не кладбище, не прах… фу, гадкий ты тип, вынуждаешь меня философствовать. — Он засмеялся, собрал тарелки и стаканы и отнес в кафе. — Ну, двинули! То-то и хорошо, — без всякого перехода взялся он за свое, — то-то и хорошо, что у нас неодинаковое отношение к городку. Кому-то надо иметь право и основания для того, чтобы ниспровергать его глухоманные привычки.
— Я не гожусь в ниспровергатели. Я, пожалуй, просто из тех, кого привлекают места еще пустынные…
— Я терпеть не могу неоспоримости этой формулы: романтики, первопроходцы рвутся в места необжитые и так далее. Все и верно, и между тем тут есть некое вранье. Я убежден: люди всегда тянутся к местам, где уже что-то было! В этом чувстве, милый мой, индивидуальном и коллективном, таится огромная созидательная сила. Прошлое таких мест не балласт, а стимул к постоянному обновлению.
— Стимул к обновлению? Но таким, как я, вообще жителям городка, надо пройти через отрицание.
Женя ухмыльнулся:
— Только помня, что пустота между отрицанием и приятием опасна.
— Опасна, — согласился я.
— Тут ходит по властям один потешный старик, Якубов, что ли, его фамилия. Так он предлагает собрать на каком-нибудь клочке города старые деревянные дома с утварью, идея в наши дни известная и горячо поддерживаемая. Но весь фокус в его подходе. Он предлагает некие свидетельства мрачного прошлого, некое хмурое назидание потомкам. Даже экспозиция по этнографии татар должна выглядеть чем-то устрашающим или хотя бы смешным. Ну, а гордостью должна стать его собственная экспозиция, в которой торжествует технизация городка: он сам когда-то фантазировал с парусными колесницами, делал планеры, был летчиком или планеристом. Словом, все это и должно стать основой музея, то есть музей должен начинаться не с останков мамонта, найденных в ближайшем овраге, и не с берцовой кости сармата-воина, а с его парусных колесниц. Тоже любопытно. Правда, все это похоже на памятник себе. Уж если у тебя чешутся руки, — сказал Женя, — вот о чем ты должен писать.
— Я, пожалуй, тоже похож на твоего нового знакомого, — ответил я. — Я не хочу писать о древностях и тем более не смогу, наверно, быть их хранителем. Вот почему я таскаюсь с Салтыковым по каждому метру, изрытому скреперами и бульдозерами, и стараюсь написать о новизне. Моей душе, Женя, не хватает новизны.
— С тобой трудно спорить, — сказал он. — Ты дитя природы, к счастью, вполне образованное.
Якуб, которого по ошибке Женя назвал Якубовым, был моим отцом, от которого мама увезла меня еще во младенчестве. Я жил в Челябинске, отчима называл папой, но мои связи с отцом не прерывались — каждое лето, я ездил в городок и принимал его попечительство, пока наконец, уже почти взрослым, не бежал от него. Он был для меня… в ряду других родственников, такой же близкий, такой же любимый, но не больше, чем, например, мой дедушка или моя бабушка.
Городок вспоминался мне всегда. Неожиданно и порывисто, исподволь и мягко возникал он в моей памяти и в детстве, и в зрелом возрасте. Бывало, иду я тихим майским утром, теплым, первородным в мягкой дреме переулка, — и померещится улочка, одна из тех, в чьих зеленых росистых чашах вскипает и клубится солнце; и дедушка ведет лошадь на водопой, погружаясь вместе с нею в пенистый надбережный туман, его прямую спину облегает синяя, изрядно выцветшая рубаха, ретивый утренний ветерок раздувает ее вокруг коричневой жилистой шеи…
Когда я приехал в городок, еще в начале строительства, меня встречал на вокзале отец, уж не знаю кем предупрежденный о моем приезде. Его поджарая, облаченная в подбористый защитный китель фигура выражала энергичное ожидание; он, казалось, был впаян в бетонку подошвами своих яловых сапог, неистово сверкающих выпяченными на икрах голенищами. Он колченого устремился ко мне. Ветерок на перроне был насыщен исступленными запахами дороги — новоявленной свежестью молодой травы, запыленной по бокам пути, и тепловатой смачной терпкостью гари. Точно дальний путь, а не три часа пригородным поездом проехал я. Встреча взволновала меня.
С пригорка открывался городок. Он всходил, он точно всходил из тех зерен, маленьких его черточек и звуков, которые долго лежали в уюте и тепле моей памяти!
— Конечно, конечно, ты не мог не приехать! — говорил отец с пафосом. — Ты должен запечатлеть этот революционный размах, это обновление!.. — Всем своим видом он внушал, что настал наконец-то и его час, хотя уж и силы, и время его ушли невозвратно.
Он тогда уже высказал мне идею собрания заповедных домов, но я не придал значения смыслу его необычайной затеи.
— Ты дитя природы, — прервал мои воспоминания Женя, — но в этом есть свой положительный смысл. Знаешь, я много ходил по здешним старожилам, много записал… Над городком витают саги о маленьких людях, которых, как цыплят, варили и жарили, а они упорствовали в неодолимом желании жить. В здешнем народе такой запас здорового оптимизма, которого, может быть, не хватает иным рафинированным интеллигентам.
— Не так-то уж много мы видели с тобой в жизни рафинированных интеллигентов.
— Не смею спорить, — рассеянно произнес Женя, но мысли его были заняты чем-то другим. Через минуту он повторил: — Над городком витают саги. Боже мои, я хотел бы послушать сагу, в которой пусть хоть намеком сказалось бы о каком-нибудь моем предке! Но я свою родословную веду от командира индустрии, попавшего в водоворот жизни из детского приюта. Может быть, дети мои будут счастливей.
Он, говорят, прибыл в Маленький Город с караваном бухарцев.
Представьте себе широкую понурую дорогу, на ней — покачивающуюся линию верблюдов с тучными вьюками на горбах и чалму караванбаши — белый свет маяка в непогоде пыли и зноя, — а где-то на задворках этого поезда едущего на вдрызг разбитой колымаге Хемета с женой и малолетним сыном среди рваного тряпья и вороха закисающей травы. Со своей колымаги взирал он сквозь тучи пыли на блеск минаретов и крестов Маленького Города.
Непонятно только, почему с восточной стороны въезжал он в городочек ярким майским днем. Скорее всего, безрассудство двинуло его в Индию, ну не в Индию, так в Ташкент, по крайней мере. И, может быть, его, помирающего с голоду, шалеющего от зноя солончаков, подобрали караванщики и взяли с собой в Маленький Город.
Вместе с караванщиками он обосновался на Меновом дворе, устроив под разбитой колымагой некое обиталище для своей семьи. А сам шнырял возле шатров, забредал на городскую площадь, а по вечерам, следуя призывам муэдзинов, шел в мечеть — в таких мечетях, роскошь которых ему и не снилась, он наверняка молился сладко, если, конечно, не засыпал от дневной усталости и его не выбрасывали вон как богохульника.
Но чаще он торчал на конном базаре. Он суетился возле коней, которых заарканивал пастушок и подводил к покупателям, а Хемет — наравне с достойными покупателями — смотрел коню в зубы, ощупывал бабки, а однажды, споря с барышником и не найдя лучших доводов убедить того в прекрасных качествах коня, вскочил на неоседланную полудикую лошадь и, лихо проскакав по кругу, подвел к пастушонку. С того разу, примеченный торговцами, он проминал застоявшихся полукровок, гарцевал на площади, горяча, возбуждая честной народ…