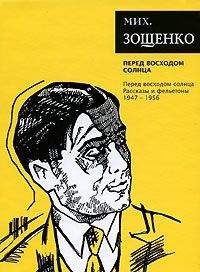И тогда я стал выписывать все, что относилось к хандре. Я стал выписывать без особого учета и мотивировок. Однако я старался брать то, что было характерно для человека, то, что повторялось в его жизни, то, что не казалось случайностью, минутным воображением, вспышкой.
Эти выписки поразили мое воображение на несколько лет.
«Я выхожу из дому, иду на улицу, тоскую и опять возвращаюсь домой. Зачем? Затем, чтоб хандрить…»
Шопен. Письма, 1830 г.
«Я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска…»
Гоголь — матери. 1837 г.
«У меня бывают припадки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море. Голубчик мой! Очень тошно…»
Некрасов — Тургеневу. 1857 г.
«Мне так худо, так страшно безнадежно худо и в теле и в духе, что я не могу жить…»
Эдгар По — Анни. 1848 г.
«Я испытываю такую угнетенность духа, какую я раньше еще не испытывал. Я напрасно боролся против влияния этой меланхолии. Я несчастен и не знаю почему…»
Эдгар По — Кеннеди. 1835 г.
«В день двадцать раз приходит мне на ум пистолет. И тогда делается при этой мысли легче…»
Некрасов — Тургеневу. 1857 г.
«Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, — только гордость мешает…»
Флобер. 1853 г.
«Я живу скверно, чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться…»
Салтыков-Щедрин — Пантелееву. 1886 г.
«К этому присоединялась такая тоска, которой нет описания. Я решительно не знал, куда девать себя, к чему прислониться…»
Гоголь — Погодину. 1840 г.
«Так все отвратительно в мире, так невыносимо… Скучно жить, говорить, писать…»
Л. Андреев. Дневник. 1919 г.
«Чувствую себя усталым, измученным до того, что чуть не плачу с утра до вечера… Раздражают лица друзей… Ежедневные обеды, сон на одной и той же постели, собственный голос, лицо, отражение его в зеркале…»
Мопассан. Под солнцем. 1881 г.
«Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение».
Гоголь — Плетневу. 1846 г.
«Я устал, устал ото всех отношений, все люди меня утомили и все желания. Уйти куда-либо в пустыню или уснуть "последним сном"».
В. Брюсов. Дневник. 1898 г.
«Я прячу веревку, чтоб не повеситься на перекладине в моей комнате, вечером, когда остаюсь один. Я не хожу больше на охоту с ружьем, чтоб не подвергнуться искушению застрелиться. Мне кажется, что жизнь моя была глупым фарсом».
Л. Н. Толстой. 1878 г. — Л. Л. Толстой. Правда о моем отце
Целую тетрадь я заполнил подобными выписками. Они меня поразили, даже потрясли. Ведь я же не брал людей, у которых только что случилось горе, несчастье, смерть. Я взял то состояние, которое повторялось. Я взял тех людей, из которых многие сами сказали, что они не понимают, откуда у них это состояние.
Я был потрясен, озадачен. Что за страдание, которому подвержены люди? Откуда оно берется? И как с ним бороться, какими средствами? Кроме веревки и пули.
Может быть, это страдание возникает от неустройства жизни, от социальных огорчений, от мировых вопросов? Может быть, это создает почву для такой тоски?
Да, это так. Но тут я вспомнил слова Чернышевского: «Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются и сходят с ума».
Эти слова меня еще более смутили.
Я не мог найти никакого решения. Я не понимал.
Может быть, все-таки (снова подумал я) это та мировая скорбь, которой подвержены великие люди в силу их высокого сознания?
Нет! Наряду с этими великими людьми, которых я перечислил, я увидел не менее великих людей, которые не испытывали никакой тоски, хотя их сознание было столь же высоким. И даже этих людей было значительно больше.
На вечере, посвященном Шопену, исполняли его «Второй концерт для фортепьяно с оркестром».
Я сидел в последних рядах, утомленный, измученный.
Но «Второй концерт» прогнал мою меланхолию. Мощные, мужественные звуки наполнили зал.
Радость, борьба, необычайная сила и даже ликование звучали в третьей части концерта.
Откуда же такая огромная сила у этого слабого человека, у этого гениального музыканта, печальную жизнь которого я так теперь хорошо знал? — подумал я. — Откуда же у него такая радость, такой восторг? Значит, все это у него было? И только было сковано? Чем?
Тут я подумал о своих рассказах, которые заставляли людей смеяться. Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце.
Не скрою от вас: я испугался, когда мне вдруг пришла мысль, что надо найти причину— отчего скованы мои силы и почему мне так невесело в жизни и почему бывают такие люди, как я, — склонные к меланхолии и беспричинной тоске.
Осенью 1926 года я заставил себя уехать в Ялту. И заставил себя пробыть там четыре недели.
Десять дней я пролежал в номере гостиницы. Затем стал выходить на прогулку. Я ходил в горы. А иногда часами сидел на берегу моря, радуясь, что мне лучше, что мне почти хорошо.
Я очень поправился за месяц. На душе у меня стало спокойно, даже весело.
Чтоб еще более укрепить мое здоровье, я решил продолжить отдых. Я взял билет на теплоход, чтобы доехать до Батума. Из Батума я хотел ехать в Москву прямым поездом.
Я взял отдельную каюту. И в чудесном настроении уехал из Ялты.
Море было тихое, безмятежное. И я весь день просидел на палубе, любуясь берегом Крыма и морем, которое я так любил и ради которого я обычно приезжал в Ялту.
Утром, чуть свет, я снова был на палубе.
Вставало изумительное утро.
Я сидел в шезлонге, наслаждаясь своим прекрасным состоянием. Мысли у меня были самые счастливые, даже веселые. Я думал о своем путешествии, о Москве, о друзьях, которых там встречу. О том, что тоска моя теперь позади. И пусть она будет загадкой, только чтоб ее больше не было.
Было раннее утро. Задумчиво я глядел на легкую рябь воды, на блики солнца, на чаек, которые с омерзительным криком садились на воду.
И вдруг в одно мгновение я почувствовал себя плохо. Это была не только тоска. Это было волнение, трепет, почти страх. Я еле мог встать с шезлонга. Я еле дошел до каюты. Я два часа лежал на койке не двигаясь. И снова возникла тоска в такой степени, какой я до сих пор не испытывал.
Я пробовал бороться с этим. Я вышел на палубу. Стал прислушиваться к разговорам людей. Я хотел отвлечься. Но мне не удавалось.
Показалось, что я не должен и не могу больше продолжать путешествие.
Я еле дождался Туапсе. И сошел на берег, с тем чтоб через несколько дней продолжить мой путь.
Меня трепала нервная лихорадка.
На линейке я доехал до гостиницы. И там слег.
Усилием воли, только через неделю, я заставил себя собраться в дорогу.
Дорога меня отвлекла и рассеяла. Я стал чувствовать себя лучше. Ужасная тоска исчезала.
Путь был далекий, и я стал думать о своей несчастной болезни, которая способна исчезать так же быстро, как и возникнуть. Почему? И какие были причины?
Или причин не было?
Как будто бы никаких причин не было. Должно быть, просто «слабость нервов», излишняя «чувствительность». Должно быть, это обычно и колеблет меня, как часовой маятник.
Я стал думать: родился ли я таким слабым и чувствительным или в моей жизни что-нибудь случилось такое, что повредило мои нервы, испортило их и сделало меня несчастной пылинкой, которую гонит и мотает любой ветер?
И вдруг мне показалось, что я не мог родиться таким несчастным, таким беззащитным. Я мог родиться слабым, золотушным, я мог родиться с одной рукой, с одним глазом, без уха. Но родиться, чтоб хандрить, и хандрить без причины — оттого, что мир кажется пошлым! Но я же не марсианин. Я дитя своей земли. Я должен, как и любое животное, испытывать восторг от существования. Испытывать счастье, если все хорошо. И бороться, если плохо. Но хандрить?! Когда даже насекомое, которому дано всего четыре часа жизни, ликует на солнце! Нет, я не мог родиться таким уродом.
И вдруг я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет сомнения — что-то случилось, что-то произошло такое, что подействовало на меня угнетающим образом.
Но что? И когда случилось? И как искать это несчастное происшествие? Как найти эту причину моей тоски?
Тогда я подумал: надо вспомнить мою жизнь. И я стал лихорадочно вспоминать. Но сразу понял, что из этого ничего не выйдет, если не внести какую-нибудь систему в мои воспоминания.
Нет нужды все вспоминать, подумал я. Достаточно вспомнить только самое сильное, самое яркое. Достаточно вспомнить только то, что было связано с душевным волнением. Только тут и могла лежать разгадка.