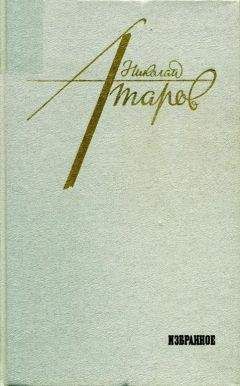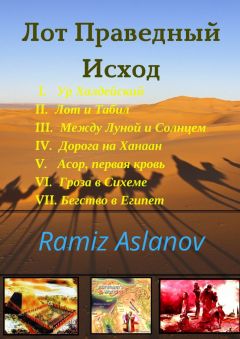«Нам надо уметь сидеть за одним столом с читателем, — подчеркивал Атаров в своем автобиографическом эссе «Когда не пишется», которое публикуется впервые. — И если читатель имеет свой жизненный опыт — грош цена нашей беседе с ним, если мы свой жизненный опыт не смогли передать ему… Всякая публицистика несет в себе лирического героя — он проявляется в интонациях, в примерах из жизни, в негодовании и в любви, в нежности — в выходе из мундира. Хочешь заразить читателя своей убежденностью — с н и м и м у н д и р» (разрядка моя. — Л. Л.).
Это кредо Атарова-публициста с его умением заразить каждого своей убежденностью, о чем бы ни говорилось в его очередном очерке — о любви к детям («Это я, когда мне было тринадцать», «Как любить детей»), о профессоре, воюющем с «оптовой педагогикой» («Глядите: там, за третьей партой…»), о «Наших достижениях» («Когда мы жили грядущим днем»), о человеческой доброте («Горсть ржаной муки»). В любом случае Атаров остается лирическим публицистом, передает каждому из нас личный жизненный опыт.
Одну из своих статей, содержавшую размышления о жанре рассказа, Николай Сергеевич начал так: «Мне сейчас кажется, что я всегда, с молодых лет, писал о людях старше меня». Он вспомнил Алехина из «Начальника малых рек», Дробышева из «Араукарии», Карагодова из «Календаря русской природы», Болоева из «Зимней свадьбы». Но случилось так, что одно из лучших своих произведений он посвятил тому, кто мог бы стать даже не сыном, а скорее его внуком. Я говорю о повести «А я люблю лошадь» (1969).
В ней нет никаких рассуждений о том, что надо любить «зверье, как братьев наших меньших» и охранять окружающую среду. Без тени сентиментальности, на первый взгляд, пожалуй, даже нарочито бесстрастно писатель рассказывает, как старая, очень старая лошадь — «на живодерню пора» — начинает занимать все более значительное место в жизни ребенка. Маленький Родион Костыря, по прозвищу Редька, кормит своего любимого Маркиза, угощает сахаром, покупает новый хомут и в конце концов приводит его в конный взвод милиции, где тот, несмотря на свой почтенный возраст, будет содержаться наравне с другими лошадьми. Вот, собственно, и все.
Повесть «А я люблю лошадь» невелика по объему, но по мастерству я поставил бы ее выше «Повести о первой любви» и «Смерти под псевдонимом». Сюжет ее как пружина, натянутая до предельного напряжения. Написана она в свойственной Атарову неназойливой, я бы сказал, антидидактической манере. Писатель развивает в ней мысли, всегда занимавшие его: «Кто знает, в какую минуту взрослеет маленький человек… — внезапно прерывая ход повествования, спрашивает автор. — Когда человек взрослеет? Ведь бывает — в одну минуту». Редька взрослеет у нас на глазах. Но в какую минуту это совершается? Когда он понимает, что должен вместо спивающегося отца взять на себя заботу о Маркизе? Или когда врет на суде, что поджег мотоцикл Васьки Петунина? Или когда приводит лошадь в конный взвод?
Когда бы это ни произошло, мы с искренней симпатией наблюдаем, как взрослеет маленький человек.
Случается так, что на Редьку обращает внимание бывший фронтовик по прозвищу Полковник. «Я ведь в нашем городе самый главный над лошадьми», — говорит он мальчику. «Почти что всех искоренили мы за ненадобностью, — с горечью жалуется он, — и лошадей, и верблюдов, и осликов». «И волков, и слонов», — подхватывает Редька.
Таков нравственный стимул, заставивший Атарова взяться за перо. Тем самым повесть «А я люблю лошадь» естественно входит в общий круг творческих интересов писателя.
Конечно, не случайным было обращение его к жизни и борьбе великого итальянца Джузеппе Гарибальди. Повесть о нем Атаров написал в соавторстве со своей женой, талантливой писательницей Магдалиной Дальцевой (1907—1984). Героика повествования о Гарибальди была в известной степени подготовлена «романтическим детективом» «Смерть под псевдонимом».
Атаров считал, что у каждого писателя есть своя доминанта, прослеживаемая в сотнях созданных им сюжетов. При этом он ссылался на Чехова и Бунина — писателей, чье творчество, по его собственному признанию, на него особенно повлияло.
В эссе «Когда не пишется» Атаров подчеркивал: «Я не могу сказать — «Руку мне поставил Чехов или Бунин». Но я должен сказать — «Руку мне вели и Чехов, и Бунин». Далее он писал, что «Дуэль» Чехова служила для него камертоном еще во время работы над «Начальником малых рек».
Творчество Атарова привлекает читателей отнюдь не сюжетной остротой — она мало заботила его. (Вспомните «Набат».) Психологическая проницательность, умение глубоко заглянуть в человеческую душу — таковы те творческие принципы, которым писатель стремился учиться у Чехова. Сознательной и очевидной была также ориентация на чеховскую языковую манеру с ее предельной — сложнейшей! — простотой, отвращением ко всему претенциозному, броскому, крикливому. Стилистическая манера Атарова на первый взгляд может показаться несколько бесстрастной, но чем внимательнее вы вчитаетесь в его произведения, тем отчетливее ощутите скрытую эмоциональную энергию, властно овладевающую вами.
Развивая свои мысли о Чехове в эссе «Когда не пишется», Атаров обращался к его рассказу «Студент». Он напоминал, как герою показалось, что, дотронувшись до одного конца цепи человеческого существования, он почувствовал, как дрогнул другой, уходящий в глубину веков. «Вот где почва искусства, — заключал свои размышления Атаров, — корневая система человечности». Возвращаясь к собственной писательской работе, он констатировал: «Пишу ли я о войне, о любви, публицистику о воспитании подростка, я исповедую эти мысли».
То, что все написанное им зиждется на общей, единой основе, Атаров отмечал не раз. Составляя одно из двухтомных изданий своих сочинений (1971), он озаглавил первый том — «Набат», а второй — «Признания в любви и ненависти». В кратком вступлении от автора он писал: «Набат» — где мысль о родине в дни ее смертельных испытаний, о солдатском долге, о воинском братстве. «Признания в любви и ненависти» — о смысле личной жизни: зачем ты, кто ты среди миллионов других, живущих рядом с тобой, хотя и не знающих о твоем существовании?»
Рассматривая лучшее из написанного Атаровым за сорок лет литературной работы, мы убеждаемся, что все это, несмотря на тематическое и жанровое разнообразие, внутренне связано между собой. «Оказалось, — писал Атаров, — что произведения разных лет тянулись друг к другу по главной мысли и независимо от жанра, в каком они написаны».
Думаю, что Атаров имел право сказать так. Это было его собственное п р а в о н а п р а в о т у. В самом деле, разве не в одном строю шагают по жизни, разделенные четырьмя десятилетиями, Алексей Алехин и Валентин Овечкин? Разве не одна и та же «корневая система человечности» объединяет рассказ «Весы и санки» с повестью «А я люблю лошадь»?
Об этом говорил Атаров в серьезной, глубокой речи на вечере, посвященном его шестидесятилетию. Эта речь запомнилась многим. Писатель с болью говорил об ошибках, которые ему случалось совершать. В «Дальней дороге» он восклицал: «Сколько же было таких, канувших бесследно пьес и романов, даже тех, какие и поныне привычно считаются критикой «золотым фондом» литературы! Господи, да я и сам в меру сил моих…»
Именно таким настроением, неудовлетворенностью сделанным была проникнута «юбилейная» речь Атарова в 1967 году. В то же время он с полным основанием утверждал, что все написанное им продиктовано желанием видеть советского человека — особенно молодого! — полным душевного благородства, свободным от всяческой корысти, преданным своей стране.
Последний раз обращаюсь к автобиографическому эссе Атарова. В нем рассказано о том, как проходило в свое время обсуждение книги Н. Емельяновой, представленной к Государственной премии: «Кто-то из руководящих товарищей сказал, что вещь, конечно, хорошая, но голос у автора тихий. Так и отодвинули. А я давно уже думаю о масштабе того или иного писателя. Голос тихий… Не беда! Лишь бы внятный. Написано не так уж много… Не беда! Лишь бы надолго».
Л. Левин
Летом 1929 года я обзавелся записной книжкой и вообразил себя писателем. Я был молод, самоуверен, хорошей девчушке, оставшейся в родном городе, писал щеголеватые письма, мечтал о ненаписанных книгах. Я готовил дипломную работу из истории русской журналистики и трудолюбиво листал в университетской библиотеке на Васильевском острове комплекты петербургских газет за целое десятилетие Крымской войны и крепостной реформы.
И вот — первая запись в жаркий полдень, когда в окна читального зала летят шмели и жужжат, нагоняя дремоту. Судебная хроника в газете прошлого века непонятно почему ударила меня в сердце.