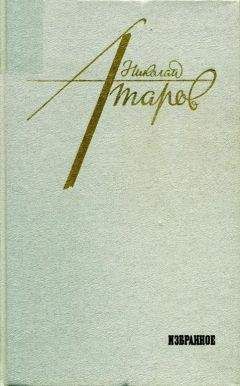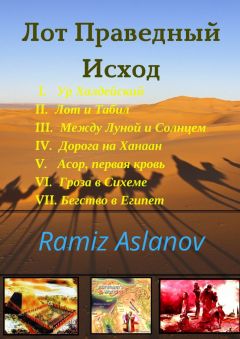И вот — первая запись в жаркий полдень, когда в окна читального зала летят шмели и жужжат, нагоняя дремоту. Судебная хроника в газете прошлого века непонятно почему ударила меня в сердце.
«В черемуховой роще под Кинешмой найден неопознанный труп в белой холщовой рубашке и синих пестрядинных портах, на ногах липовые лапти с шерстяными онучами; и при нем — кожаный картуз, ветхий, черного сукна, кафтан, бурлацкая лямка с варовым поводком, поношенный, бараньих овчин, полушубок и холщовая котомка, в коей найдены ветхие пестрядинные порты, глубокие бахилы на помочах, худые липовые лапти, три ременные, с медными колечками, бурлацкие поводка, клубок крученых ниток и несколько ржаного печеного хлеба».
Я так заволновался, что вышел покурить в пустынный по каникулярному времени коридор. Что, собственно, меня растревожило? Чья-то студенческая фуражка с синим околышем покатилась по лестнице, я ее догнал, отдал по принадлежности, даже не поглядев — кому, бросил в окно недокуренную папиросу, вернулся в зал и выписал заметку в свой еще не начатый клеенчатый блокнот.
Сейчас я догадываюсь, что́ больше всего меня поразило — уважительное, в подробностях, описание убожества, когда оно как под лупой: бурлацкая лямка с варовым поводком, ветхий кафтан, холщовая рубашка. Пестрядинные порты — значит, самые простые, груботканые? Варовый поводок — значит, пеньковый, что ли, смоленый? А другая пара липовых лаптей в котомке — они хоть и худые, а надо их беречь на крайний случай, про черный день? А клубок крученых ниток? Когда в обрыве речного берега находят стоянку первобытного человека с золой костра и останками мамонта, археологи не более подробно описывают каждый кремневый осколочек.
Почти сорок лет прошло, а попадется мне под руки эта запись в выцветших зеленых чернилах на пожелтевшей бумаге — и снова встревожит. Чем? Почему? За это время я видел не так уж мало. Ворох истрепанных тетрадок, путевых дневников, разрозненных клочков исписанной бумаги заполнил ящики архива, не хватает времени навести порядок. И кажется иногда, что чувство прожитой жизни не в книгах моих, не в поступках, даже не в памяти, а в этой неразберихе бумаг в глубоких ящиках. Были авральные работы на Днепрострое — остался репортерский набросок. Была голодная зима в Ленинграде — ужасная, медленная тетрадь. Первый поезд метро, трепещущая в сопричастии к чуду толпа у эскалаторов Охотного ряда. Трагедия Аджимушкайских каменоломен в мае 1942 года, когда трудно было дышать от дыма сжигаемых штабных бумаг и от меловой пыли, — она облаком стояла в пещерах от взрыва бомб на скалах снаружи. Вот протокол комсомольского собрания на стройке железной дороги в южносибирской тайге. Вот череп Ивана Грозного, мне дали его подержать в руках в мастерской скульптора-палеонтолога Герасимова, восстанавливавшего исторический портрет по лицевым костям давно истлевшего человека. Вот свежие листки — воздушный парад в Домодедове, когда проглянул сказочный, а может, и зловещий завтрашний день в том, как самолет отвесно опускался на аэродром, а другие, взлетая, убирали крылья, становились как стрелы.
Бывает, понадобится живая подробность, ищешь ее, ищешь, вороша блокноты. Занятие на целый день. Сколько лиц, мелькнувших бесследно, а все-таки одаривших меня ощущением богатства каждого прожитого дня.
Вот запись — в ветлужском лесу за Волгой в году тридцать пятом выскочил нам навстречу бородатый красноглазый леший — думаю, из староверов, — бил палкой по крылу машины, яростно скрежетал зубами: «У-у-у, дьявол, дьявол!»
А вот еще заметка, спустя год, для памяти: в директорской ложе театра меня познакомили на премьере «Катерины Измайловой» с прославленным шахтером, он был в парадном черном костюме вроде смокинга, его могучее плечо перед моими глазами было здорово выписано, высечено прожектором и казалось уже торжественным, державным. И рядом с ним — его молодая красивая жена, по-кустодиевски вальяжная, другого слова не подберу, с лебяжьей пуховой грудью, у розовой щеки ее поблескивали огнями бриллиантовые сережки.
А вот карандашные каракули из фронтового блокнота о том, как вывозил меня из пылающей Керчи, уводя свой самолет из-под минометного обстрела с последнего, Багировского, аэродрома, раненый летчик, на спине его черного реглана расползалось мокрое пятно. Сможет ли дотянуть над камышами пролива, над песчаными отмелями? В кубанской станице, где приземлились, я доставил его на грузовике в госпиталь, помню, он все просил пива, но я не смог достать, я даже не успел проститься, его унесли на носилках, так и хранится он, бесфамильный, в одной из записных книжек, даже не переписанных с той поры.
Перебираешь папки нашей русской истории, чему был свидетель за сорок лет, и опять попадается на глаза пожелтевший листок с бурлаком в пестрядинных портах. Кто же он был? И что с ним приключилось в роще? Был ли он хмельной бродяжка, перекати-поле, со своей холщовой котомкой? Или беглый каторжник из острога? Или истовый серьезный мужик — богомольный, правдоискатель? А имеет ли это значение? И на что он может мне пригодиться в моих злободневных писаниях? Вырвать и бросить в корзину — с глаз долой!
Нет, не могу. Нельзя.
Сегодня вчитался в дату газетной хроники: август 1867 года. Значит, сто лет, столетие прошло от того дня, когда нашли и не смогли опознать труп в черемуховой роще под Кинешмой.
Далеко ли это? Или близко?
Да как угодно можно считать, но только все, что я видел в своей, в нашей жизни великое и низкое, героическое и постыдное, передовое и отсталое, чему оказался свидетелем и соучастником в своей стране, — все это случилось после него, и ко всему он имеет отношение. Знаю: когда хочу разобраться в том, что видел, счет следует начинать с его бурлацкой лямки и липовых лаптей, спрятанных про запас. Что было до него, о том имею представление книжное, заемное, заочное — были леса и хмари. А он, словно последний мамонт, выломился оттуда, «из тьмы лесов и топи блат», из многовековой убогости, бесправия и умственной немоты, парень в пестрядинных портах, — выломился, и я увидел его своими глазами, выглядел в черемуховой роще под Кинешмой.
И сегодня, сдается мне, примята трава, на которую он пал ничком. Войди в рощу — и найдешь. Через целое столетие тянется к нам крученая нитка — пойди за ней и дойдешь до клубка.
1967
НАПЕРСТОК
В шестнадцать лет Ольга Кежун стала такой порывистой, резкой, вспыльчивой, что однажды ее подруги-девятиклассницы послали ей записку: «Оля, опомнись! »
Когда человек делает все «назло», много ли у него найдется приятелей? В сущности, в том году Оля осталась без подруг. Может быть, ей самой это не нравилось, но она говорила всем: «Моя подруга — мама». Никто этого не мог проверить. В классе заметили, что Кежун часто не знает заданного, но зато по некоторым предметам читает сверх программы — уж не затем ли, чтобы спорить с учителями?
На одном из уроков физкультуры она всех удивила: шестнадцать раз подтянулась на турнике. Никто не заметил, чего ей это стоило; она и виду не подала — чуть-чуть поглаживала ноющие руки и только улыбалась, пока ее хвалил преподаватель физкультуры. Молодого учителя все звали Яша Казачок. Он так гордился Олей Кежун, что вскоре даже познакомился с ее мамой, наговорил ей об Олиной «перспективности», пообещал устроить в спортивное общество. Мама купила Оле лаковый пояс, сшила синий, вроде купального, костюм с белыми пуговичками на левом плече.
А потом Оле отказали — не подошла по возрасту. И это всем стало известно. Она и не подозревала, что от таких пустяков можно плакать. Что за глупости, в самом деле! Спрятавшись в коридоре под лестницей, она кусала платок и глотала слезы. С подурневшим лицом выслушала она перед всем классом, как тот же Яша Казачок хладнокровно заключил, что так даже лучше для Оли: надо ей погодить — скоро откроется юношеская спортивная школа.
Девочки пересмеивались. Чтобы не остаться в долгу и раздразнить их посильнее, Оля на перемене похвастала тем, какая она в общем удачливая, такой даже и на свет родилась.
Раздались голоса:
— Ой, девочки, давайте послушаем!
— Теперь мама инженер-строитель. А когда я рождалась, у нас папа работал на стройке, а мама просто так жила, собиралась учиться, — скороговоркой выбалтывала Оля, боясь, что не успеет до звонка рассказать все, что когда-то услышала от няньки. — Вот мама шьет мне приданое и чувствует: «Тук-тук…» Это я! — Оля победоносно засмеялась. — Мама отложила шитье, скорей в конец коридора к знакомой акушерке. Мы в общежитии жили. Тут я и появилась. Акушерка подняла меня над головой, смеется. Потом показала на мамин палец: «Гляди, наперстка не сняла; примета счастливая».