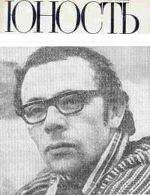Этот детсад называется «Солнышко». Из-за одной только Юльки его можно так назвать. Она ведь правда как солнышко, моя сестренка, вся светится, и мама так ее и зовет — «солнышко», а папа — «собачонка», а я по имени, чтобы она не слишком-то нос задирала и не думала, что самая главная на свете.
Я воспитательнице сказал, что забираю ее, взял за руку и повел. Юлька сразу выпалила:
— А я новый стишок выучила!
— Да ну? — говорю. — Какой?
А сам думаю: сначала кулаками, а потом можно и головой в зубы, но, наверно, и одного удара хватит — он сразу захнычет, хоть и здоровый лоб, и запросит пощады, трус несчастный, барыга презренный!..
А Юлька остановилась, сглотнула горлом и прочитала своим звонким голосом:
— Коль хотите, чтобы вас
укусили в руку,
открывайте щуке пасть,
суньте руку в щуку.
Я ее погладил по шапочке. «Хороший, — говорю, — стишок. Молодец».
— А почему ты не смеешься? — она спросила. И вдруг закричала: — Папа! Вон папа!
Я взглянул, а там около газетного киоска рядом с магазином действительно стоит папа и еще двое мужчин. Из магазина вышел еще один с портфелем, что-то сказал, они засмеялись и пошли все вместе по улице.
Юлька закричала: «Папа! Папа!» — и хотела за ним бежать, но я удержал ее за руку. И прикрикнул:
— Какой тебе это папа! Это дядька похожий. Слепая, что ли!
А он не слышал, был далеко. Никто из них не слышал, идут, смеются.
Я Юльку быстрей за угол затащил, повел дворами и стал быстро и громко говорить, что сейчас по телевизору будут показывать мультики, надо спешить, а то опоздаем. А сам уже забыл про Светку и про Барыгу и одно думаю: он же в другую сторону от дома пошел, папа, со своими знакомыми, — значит, ему не до нас, значит, он не хочет, чтобы мы его видели. А про то, зачем он пошел, стараюсь вообще не думать.
— Целых полчаса мультики, — твержу. — Полчаса, понимаешь? Штуки три, не меньше, Юлька!
Мама уже дома была. Она нам открыла веселая такая, в кухонном фартуке.
— Ага! — засмеялась. — Явились! А ужина еще нет, ребятки. Придется подождать.
— Мы папу видели, — сразу выложила Юлька.
— Где? — удивилась мама.
— Да ну ее! — закричал я. — Вбила себе в голову. Кто-то был в таком же пальто, как папа.
— Нет, папа! — не уступает Юлька.
— А я говорю — не папа! Сейчас как шлепну, чтобы не спорила!
Побыстрей разделся и прошел в ванную.
У меня нет своей комнаты, где бы все было мое и куда бы никто не заходил. В спальне спят мама, папа и Юлька, а я сплю на раздвижной тахте в столовой, а уроки готовлю чаще всего на кухне. А сейчас я заперся в ванной. Столько всего навалилось сразу… даже виски заломило. Я пустил воду и подставил голову под холодную струю, а тут мама, ясное дело, стучит. Я открыл, с головы вода льет.
— Что ты здесь делаешь? — спросила мама.
Юлька заглядывает.
— Что ты здесь делаешь? — обезьянничает.
Мама ее прогнала и мне:
— Где вы его видели? Куда он пошел?
Ее не обманешь, маму! Она все чувствует, что нас касается.
Я закричал:
— Ну, на улице! Ну и что? Прогуляется немного и придет. Имеет же он право!
— Конечно, имеет, — подтвердила мама, а у самой губы задрожали.
— Ничего не случится, — говорю. — Вот увидишь. Может, у него какое-нибудь дело. А так ничего не будет. Вот увидишь! — маму убеждаю и себя.
Она ушла на кухню. Я голову вытер, прошел в столовую, открыл «Путешествие Ливингстона». Юлька в спальне возилась с игрушками. Тихо было, и мы с мамой ждали, когда два раза по-папиному зазвонит звонок. Было уже половина седьмого. На улице темно. В это время он приходит с работы. Мы уже привыкли, что он приходит в это время, понимаете?
Мы быстро привыкли с мамой, как кошки, понимаете? У кошек начинается сытая жизнь, размеренная, с молоком и мясом, с почесыванием за ухом, — и они прошлое сразу забывают: все там помойки, подвалы, собачьи оскаленные пасти, так ведь? Вот и мы. Мы уже не помнили того, что было. Не хотели помнить. И вот ждали. Дверь хлопнет в подъезде, мы замираем, прислушиваемся к шагам. А звонка нет и нет.
В семь часов мама позвала нас с Юлькой ужинать. В восемь даже Юлька стала нервничать и спрашивать, где папа. Я затеял с ней игру в больницу. Мама закурила на кухне и открыла дверцу титана, чтобы вытягивало дым. А вообще-то она не курит, мама. Только вот в таких случаях.
В половине десятого — дзынь! дзынь! — звонок зазвонил по-папиному. Мы с мамой вместе выскочили в коридор, а за нами Юлька.
Папа стоял на пороге, плечом к косяку, и улыбался. Я только взглянул на него — и все. Я сразу понял, что нам с Юлькой надо закрыться в столовой. Взял ее за руку и потянул.
— Пошли, — говорю, — Юлька. Будем дальше играть. Но она уперлась, смотрит на папу во все глаза. Спросила:
— Папка, ты почему долго не приходил?
А он стоит на пороге — и улыбка эта кривая… будто он смеется и плачет сразу, защищается ею от нас.
— П-прости, — говорит, — с-собачонка… задержался с-слегка.
Я Юльку сильно дернул, закричал:
— Пошли, что ли!
Я не хотел, чтобы она видела такого папу. И сам смотреть не мог, как он криво улыбается и заикается, будто косноязычный.
Юлька заплакала. Мама быстро сказала:
— Уведи ее! — А сама стоит бледная и смотрит на папу так, будто не верит, что это он.
Я Юльку под мышки схватил и затащил в столовую. Дверь закрыл, спиной подпер и слышу то, что мне нельзя слышать, но что я уже, может быть, тысячу раз слышал. Мама папе говорит: «Это как же понять, Лёня? Ты опять пьян». А папа извиняющимся, косноязычным голосом объясняет, что так уж получилось, выпил, да, но вообще-то он в форме. И я слышу и думаю: он притворяется. Честное слово. Он сейчас рассмеется и скажет, что пошутил. А иначе зачем мы сюда ехали? Зачем было ехать сюда? Зачем? Лучше бы уж тогда наш самолет разбился сразу и мгновенно. Я бы не стоял так у двери, как всю свою жизнь стою. Не кусал бы губы до крови. Не оберегал бы Юльку от папы. Мама не плакала бы. Папа не бормотал бы свои оправдания. Мы уже не мучились бы, понимаете!
И я закричал на Юльку, как псих:
— Замолчи! Не реви! — и даже шлепнул, хотя редко ее обижаю, а другим и подавно не позволю.
Но у меня сердце будто перевернулось, понимаете! Я уже знал, что будет впереди, раз папа опять взялся за старое.
«Дорогая мама, здравствуйте. Давно не писала, извините, но тому были причины: не хотела Вас расстраивать. Я вообще не стала бы посвящать Вас в наши семейные беды, если бы Вы не взяли с меня слово писать обо всем, что касается Лёни. И еще я надеюсь, что Вы своими письмами можете на него повлиять.
Лёня опять сорвался, мама. Началось все с какого-то дня рождения у его сослуживца. Я подумала, что это эпизод, но вскоре повторилось уже по другому поводу. Потом началось, как всегда, каждодневное пиво, точнее, ссылки на пиво, которым он прикрывает крепкие напитки. А вчера поздно вечером (ребята уже спали) его привели домой Жуков и незнакомый мужчина, и он едва стоял на ногах. Сегодня суббота, он ушел с утра в магазин за сигаретами и пропал. Сейчас шесть вечера, а его нет. Совершенно ясно, почему.
Господи! Опять этот кошмар! Неужели все полетело прахом? Ведь как хорошо все наладилось, мы словно все родились заново. Сердце болит, мама. Не могу больше писать. Юлька и Лёша здоровы.
Поля».
Я поднялся на второй этаж, где учительская, и постучал в кабинет Виктории Ивановны. Она завуч, Виктория Ивановна. Та еще Виктория Ивановна! Я видел недавно, как она в магазине чуть не подралась с продавщицей из-за килограмма колбасы. Всю жизнь не знать бы такой Виктории Ивановны!
И вот я к ней вошел в кабинет. А у нее сидела Нина Юрьевна, наш классный руководитель. Они разговаривали. Может быть, о колбасе, а может быть, обо мне.
Я спросил: «Вызывали?» А Виктория Ивановна сказала:
— Да, вызывала, Малышев. Садись-ка сюда.
Ну, я сел, уставился в пол. А Виктория Ивановна:
— Подними голову! Смотри на меня!
Будто она красавица какая-нибудь, Сикстинская мадонна какая-нибудь, будто удовольствие получишь, если посмотришь на нее. А у самой лицо старое, толстое, подбородков штук пять и маленькие, злючие глазки.
— Ты почему опоздал на два урока, Малышев? — Так она начала.
— Что с тобой происходит, Лёша? — подхватила Нина Юрьевна.
— Проспал, — говорю.
Солнце светило мне прямо в лицо, очень здорово припекало, так бы и лег на эти стулья и подрых.
В эту ночь много чего случилось. Я за мамой ухаживал, когда ей стало плохо с сердцем, а папа не мог помочь. Он на моей тахте лежал, как убитый, — как упал, так и лежал, прямо в пальто и ботинках, и хрипел с открытым ртом. Я его хотел растолкать, но куда там! Он же домой ввалился почти без сознания, папа, — не знаю, как добрел, и только пробормотал с закрытыми глазами: «Извини, Поля…» (а меня, по-моему, даже не увидел), только до моей тахты добрался вдоль стены, только рухнул — и все. Нет папы!