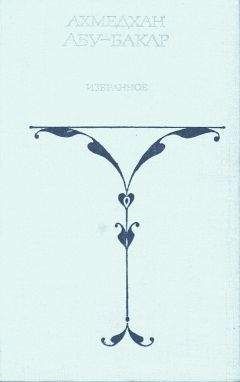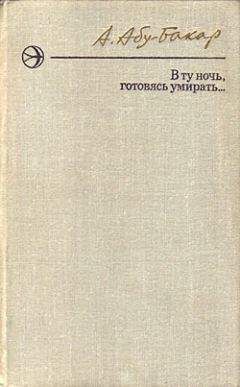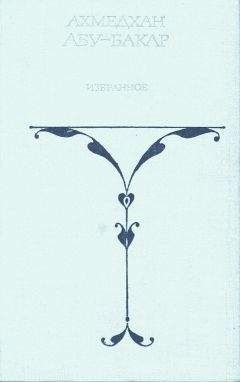— И ты рад был услужить?
— Щенок, выбирай слова, когда разговариваешь с отцом. Никто не бывает рад, когда умирает друг, мы с ним сотни раз смотрели смерти в глаза, — глядя исподлобья, говорит сыну отец. — Он первым выскакивал на бруствер, когда надо было идти в атаку. А я шел за ним, потому что звал друг.
— И такой человек дрогнул…
— Замолчи!
— Каким бы высоким ни был минарет, отец, ему не под силу удержать восход солнца. Пойми же ты, последний из могикан…
— Это ты меня так называешь? Спасибо, я не Могикан, я, к твоему сведению, из рода Каттаган.
— Пойми, хотим мы этого или не хотим, новое будет наступать гусеницами тракторов, скрежетом кранов, салютом заводских труб, гудками многотонных машин, запахом солярки, новое будет шагать железными растопыренными опорами высоковольтных линий во все тысячи ущелий и на тысячи вершин. Оглянись вокруг, отец, перед этим не устоять никому и ничему.
— Нет, нет, устоял Дингир-Дангарчу, устоял, не сказал ведь он, что хочет, чтобы его похоронили на новом месте… — усмехнулся Ашурали, будто на самом деле испытывая в душе торжество от того, что дразнил сына, не отдавая себе отчета, для чего он это делает. Все это было похоже на злорадство, и Мурад в упор посмотрел на отца, взгляды их скрестились — это не предвещало ничего доброго.
— И не оттого ли радость сияет в тебе, отец, что ты сумел под конец своротить с пути друга?
Это уже было дерзостью. Старик побледнел, нахмурились брови, свисающие со лба, как мох с козырька, задвигались желваки: не думал он, что сын способен на такое. Помутился на миг его рассудок, он вздрогнул и занес палку над головой сына.
— Не смей, отец! — вскинул руки Мурад, но было поздно: палка больно ударила по голове.
— За что?
— Ты смеешь подозревать отца в недостойном?
— Отец, успокойся, люди смотрят. — Мурад почувствовал, как по щеке пробежала горячая струйка. Он потрогал рану на голове и, отдернув руку, посмотрел на свою ладонь, она была в крови. — Не думал я, что ты можешь так…
— А ты думай. — Хотя в душе старик уже испытывал сожаление и даже раскаяние, но виду не подал, не к лицу мужчине показывать слабость.
— За что? Не за то ли, что я сказал правду?
— Ты сказал неправду… А это за то, что в детстве я не бил тебя! Иди, сюда иди, говорю. — Он схватил сына за локоть и потащил к речке, что протекала по выложенному руслу мимо кладбищенской стены. — Нагнись!
И в это мгновение Мурад заметил на террасе сакли, что стоит над самым обрывом, женщину в белом платье… Да, это была она, та, к которой он приехал вчера, но увидеться помешали эти похороны. Она ждала его. Белое платье вдруг исчезло. «Чего доброго, бросится сейчас сюда…» — с тревогой подумал Мурад.
Ашурали, черпая в ладони прозрачную речную воду, стал смывать кровь с головы сына. Потом огляделся, сорвал свежих листьев подорожника и приложил к ране.
— Держи рукой вот так! Ничего страшного, будь мужчиной: при виде крови только бабы надают в обморок… Заживет как на собаке, по себе знаю.
— Ты злой, отец! И зря все это, пусть люди живут на новом месте, не мешай им.
Ашурали промолчал.
— В жизни всегда надо утверждать новое.
— А старое, не разбираясь, сметать? Я, значит, старое, а ты новое? Хи-хи! И, значит, старые все обряды, традиции все сметать, уничтожать? Впрочем, и не осталось уже из старого почти ничего, ни хорошего, ни плохого, нечего даже на зуб попробовать. А взамен что дали, взамен, я спрашиваю, для души, для человека?
— Для души — свободу, отец.
— Возьмем, родился человек…
— И мы его приветствуем, разве не так? Ты же ведь сам рассказывал, что раньше не всякий мог радоваться рождению сына: лишний рот в семье — обуза. Разве не так? Молчишь? О рождении дочери стыдились и говорить.
— Но честь дочери берегли свято! И не терпели таких вертихвосток, как сейчас. Ты в этом видишь свободу? А во что превратили вы само цветение человека — свадьбу, этот древний обряд?
— Ты имеешь в виду новый обряд?
— Я имею в виду твою так называемую комсомольскую свадьбу… Что? Краснеешь? Стыдно?
— Но я, быть может, исключение.
— Это глупо и неуважительно.
— Почему же?
— Хотя бы потому, что свадьба детей — в первую очередь радость для старших, родных и близких, их гордость. Это они празднуют свою победу, радуются, что сумели вырастить детей и скрепить новую семью. А что получается на вашей свадьбе? То, что у тебя получилось.
— Не напоминай об этом, отец, прошу тебя.
— Почему ж? Надо и горькое вспоминать. Ну хотя бы взял да пригласил Дингир-Дангарчу, если не соизволил меня пригласить… Стыдно?
Сколько лет прошло, и до сих пор отец не может простить ему, Мураду, свою обиду. Что ж, ветреным был тогда его сына, но со временем понял, осознал, и ему больно сейчас слушать упреки отца.
— Где же были твои родственники, близкие, родные, твои братья, где был твой род, благородное и неистребимое в человеке чувство родства? Молчишь? Ты считаешь это предрассудком? Ошибаешься! А, да что там говорить, уже в горах люди перестали узнавать своих троюродных братьев и сестер, а скоро, есть опасность, перестанут узнавать и двоюродных, а там недалеко и до того, когда брат у брата будет спрашивать: «Чей ты сын?» Разве не страшно это? Я не говорю, чтоб хранился неизменно старый род, теперь все смешалось, и кровь и нации, но дайте тогда новый род, укрепите, углубите его, сделайте прочными, жизнеспособными и корни и крону родства.
— Ты живешь старым понятием родства, отец, но рождается новое — родство людей, общества.
— Без рода и племени? Без кровного родства?
— Да, в моем понимании. Новая общность людей, советских людей, без этих двоюродных и троюродных. И расцветет на земле духовная их общность с мощными корнями и могучей кроной.
— Не верю я в это, не верю.
— Но это не зависит от того, что кто-то не верит.
— Я не «кто-то», а твой отец… Ну, а как же, скажи мне, связать с этим то, что иные люди стараются искать невест и женихов обязательно в своей среде? Роднятся, например, директор совхоза с председателем колхоза, мясокомбинат с молокозаводом и так далее. Как такое понимать мне, старику?
— Это капля в море.
— Но капля может очернить море.
— Нет. Это не страшно для здорового общества.
— Все это желаемое. Я остаюсь при своем… А возьми тот же обряд похорон. Он ведь остается таким, каким был тысячи лет. Не приемлют люди речей по бумаге, не приемлют. Одно чье-нибудь выступление, как, например, речь Махамада, сына Рабадана, и на целый год хватит разговоров, насмешек. О чем он говорил на похоронах Али? И о его работе, и о его личной жизни, и даже о профсоюзных взносах не забыл упомянуть. Ну как? Вот я и толкую: прежде чем отвергать старое, надо подумать, что дать взамен.
Добрый мастер акварели, окажись он здесь, изобразил бы сейчас старика Ашурали на серо-зеленом фоне стены у родника легкими, плавными мазками, выделив ярко-желтой краской лоб, нос, скулы и мочки ушей, вдохнув в них щедрость солнца, коричневой с желтым нарисовал бы его усы и округлую бороду, темно-синей — бешмет с расстегнутым воротом, наметив узлы-пуговицы, а папаху обязательно сделал бы, как есть, лохматой и абсолютно черной; глаза спрятал под брови, чтоб они смотрели задумчиво. И получился бы современный портрет.
— Это ты внушил Дингир-Дангарчу, чтоб он завещал похоронить его здесь? — продолжал сын.
— Не говорил! Не говорил! Я скажу это, когда буду сам умирать, скажу, чтоб меня похоронили тоже здесь, именно здесь, рядом с предками моими. — Старик указал палкой в сторону кладбища. — Где лежат мой отец, мой дед, мой прадед. Это вы, неблагодарные потомки, можете ничего не завещать, пусть хоронят где попало и как попало…
— Ты не подумал о том, что ты не один, что ты ответствен за многое, потому что тебя слушаются люди…
— Я горжусь тем, что люди внимают мне!
— А почему они это делают?
— Я прожил честную жизнь и ни у кого куска хлеба не отнимал, потому-то они и уважают меня.
— Нет, ты ошибаешься, отец, тебя не уважают, тебя боятся ослушаться.
— Откуда ты набрался такой наглости? — Лицо старика обрело цвет чахлой травы.
— От удара твоего!
Старик осекся и, сдерживая себя, на этот раз тихо, примирительно проговорил:
— Кровь опять просочилась, смой!
Но от этой минутной мягкости гнев вспыхнул с новой силой. Старик судорожно вскочил и, не желая больше оставаться наедине с сыном, заторопился — подальше от греха.
А сын испытующе смотрел вслед отцу и впервые так отчетливо видел его согбенную спину, сутулые плечи, кривые ноги кавалериста в заплатанных, нечищеных сапогах. Жаль стало ему отца, и не успела эта мысль укрепиться в нем, как старик от быстрого шага споткнулся и потеряв равновесие, упал. В одно мгновение Мурад оказался рядом, чтобы помочь отцу подняться, и в это время они услышали знакомый окрик: «Эй, Ашурали, не то место выбрал ты для молитвы!» Старик пропустил мимо ушей глупую остроту Хромого Усмана, обернулся к тому, кто, бережно поддерживая его, помогал встать на ноги, и увидел сына, а сын смотрел в помутневшие, слабые глаза отца, полные грусти и усталости. Две слезинки росой блеснули в глубоких впадинах глаз старика, и он отвернулся.