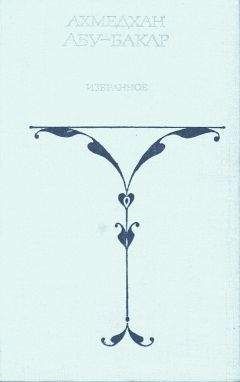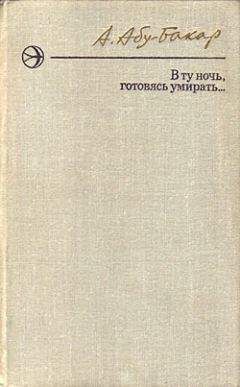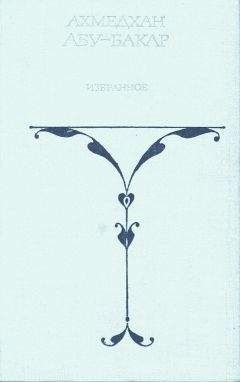— Ты идешь домой? — спросил Ашурали, не оборачиваясь к сыну, и услышал ответ:
— Нет, отец!
И они разошлись. Мурад пошел вверх по той скале над обрывом, на которой когда-то случилась катастрофа, еще памятная людям: из-за беспечности водителя, поставившего на крутой, скалистой дороге автобус, машина, снявшись с тормозов, съехала вниз и задавила двух работников киносъемочной группы…
Мурад углубился в свои мысли и не слышал, как за ним бежала, окликая его, маленькая босоногая девчонка в коротком платьице и с торчащими, как козьи рожки, косичками. Он обратил на нее внимание, когда она очутилась рядом. Она протянула ему свернутый вчетверо листок бумаги и побежала обратно, но вдруг остановилась и, обернувшись, посмотрела на него, прикусив палец, и с лукавинкой в глазах улыбнулась. Развернув записку, Мурад увидел только три слова: «Я буду там». И больше ничего, даже подписи не было. Но Мурад понял все, он сейчас направлялся именно туда, где его ждали: записка лишь напоминала о волнении человека, который ее писал, его сомнениях… Мурад прибавил шагу, думая о встрече, хотя разговор с отцом, глубоко расстроивший его, не выходил из головы.
В чуткой тишине на лесистом склоне горы Сахли с раздражающим однообразием отсчитывала обещанные людям годы одинокая кукушка.
НА БЕРЕГУ НОВОГО ОЗЕРА
Какое-то необъяснимое возвышенное волнение охватывает при виде одиноко стоящей горянки, задумчивой, углубленной в свои мысли. Явление это необычное в горах и поныне очень редкое, вызывающее у блюстителей старых суровых законов лишь недовольство и возмущение, будто женщине и не положено думать, страдать или просто любоваться окружающей природой.
Вот стоит она, одинокая, в белом платье, стоит на скале, как вызов заходящему солнцу, задумчиво глядя на переливающиеся от закатных лучей волны озера, и белое платье ее кажется позолоченным. Еще совсем недавно этого озера не было, оно образовалось после того, как в верховьях перекрыли реку Ак-су — Белую реку, ту самую, что шумит, бьется в пене, как загнанная лошадь, и спешит вырваться из глубоких теснин у старого Чиркея. Над ровной гладью озера царит покой, нарушаемый лишь тихим всплеском легких волн… И вот здесь, вдали от аула, от людей, появилась невесть откуда эта женщина. Что привело ее сюда? Какие мысли и тревоги волнуют ее? Стоит она, будто прекрасное изваяние скульптора, решившего украсить берег этого необычного озера, похожего на вправленную в золотые зубцы бирюзу — слезу любви, самый излюбленный камень Востока. А может быть, ее делают такой привлекательной именно это женское одиночество и эта удивительная в своей живописной суровости окружающая природа? Красоту в женщине горцы понимают по-своему. «Ну что же, — говорят они, — тебе нужно? Не кривая и не слепая, не хромая и не горбатая, красный румянец на щеке, не глухая и не немая, хотя женщине и положено быть немой… Чего ты еще хочешь? Да если к этому добавить душевные качества: доброту и приветливость, покорность и рассудительность!»
Вот скользнули по ней ласковые лучи солнца.
Да, это она, доброе дитя суровой природы.
Это Султанат.
Это она прислала записку.
Казалось бы, зачем ей, председателю сельсовета, эта женственность и привлекательность? Ну а что, неужели лучше, если бы председателем сельсовета была кривая или хромая? Раз люди выбрали ее, значит, нашли в ней что-то отличающее ее от других, не избрали же ее для того, чтоб любоваться. Хотя на нее и заглядеться не грех. И пусть, на то и даны людям глаза, чтоб отличить родинку на шее от чечевицы, лебяжью шею девушки — от холки лошади, алый мак с каплями росы — от юных губ, с которых, как лепестки мака, готовы сорваться поцелуи… О чем мы говорим? Взрослые люди, а толкуем о чем? Разве к лицу носящим папаху судачить о том, о чем им не положено говорить, о чем надо молчать.
Она тянется к солнцу, а может быть, солнце не хочет закатиться за горы и не гаснет, чтобы подольше удержать на ней свой светлый взор?
Белая птица над голубой равниной озера!
Диво-озеро — вот как бы я назвал его, это голубое чудо в горах, созданное руками человека. Где вы, поэты? О чем ваши думы? Прислушайтесь: сколько здесь пленительной музыки, сколько красок вокруг этой белой птицы в облике горянки, пришедшей на свидание с любимым.
Встрепенулась она, вот-вот сорвется с места и поплывет по сверкающей глади озера. Но нет, она не поплыла — полетела навстречу тому, кто спешил к ней, кинулась в объятия птицей и не с криком радости, а с рыданием. Мурад прижал ее к груди, не может понять, почему она в слезах.
— Кого оплакиваешь? Дингир-Дангарчу или меня? Но я еще жив. — Он гладил ее мягкие волосы, смутно понимая, что нет теперь ему ближе и дороже человека, если не считать отца и матери. — Что с тобой?
— Ничего…
— А почему ты плачешь?
— Я боялась, что ты не приедешь, и даже говорила себе в душе: «Лучше бы не пришел».
— Я могу уйти, — сказал Мурад, но не для того, чтобы и в самом деле уйти, а просто так, из-за неосознанного желания услышать нежное: «Не уходи».
Султанат еще теснее прижалась к груди Мурада.
— Почему же ты плачешь? — спросил он, почувствовав, как она дрожит.
— Я уже сказала… Плачу потому, что ты пришел, — невнятно ответила она, не решаясь поднять голову.
— А если бы я не пришел?.. — Как жесток порой бывает горец, не слишком ли он самоуверен? И можно ли так испытывать женское сердце? Ведь он уже успел убедиться в том, что она своенравна и в мимолетном порыве своем неизвестно что может сказать и на что решиться.
— Значит, не услышал бы ты… как я плачу. (Достойный ответ, говори правду, горянка, тебе ли скрывать свои мысли и чувства!) Потому что не знаю, заплакала бы я или нет.
— Ты прости меня… Я издали глядел на тебя, ты была прекрасна, как белая птица. — И вот он растаял, как лед в теплой воде, этот горец, вот он уже чувствует запах ее волос. Ведь он шел сюда, торопился, надеясь на близкую радость встречи.
— Погоди, ты просишь прощения? Я не прощаю, я измаялась, я измучилась, я ждала тебя вчера… Ты не знаешь, что это такое — месяц не видеть тебя. И вот ты приезжаешь, ты рядом, а я до самого утра жду тебя. Ты камень, ты…
— Но ты пойми, я не мог. — Он слегка отстраняет ее, а может, она отстранилась, смутившись своей дерзкой страсти.
— Раньше ты мог, раньше…
Ее упреки и льстили ему, и настораживали.
— Какая же я дура… — Султанат рассмеялась, но в смехе этом не радость, а страх и стыд. — Вчера, после полуночи — ты слушаешь меня? — после полуночи, когда аул спал, я притащилась к твоему окну с лестницей, да, да, с тяжелой лестницей… А как я несла ее, уму непостижимо. Попробовала поднять сегодня утром, не смогла.
Такое откровение горянки — верный признак простодушия и преданности.
— Ты сумасшедшая: в той комнате спал и отец, — испугался Мурад и тут же смутился.
— А мне было все равно… Но подумай, если бы меня встретил кто-нибудь и спросил, куда я иду с лестницей, что бы я ответила?
— Ну сказала бы… — Мурад запнулся.
— Что? — Ее обида стала рассеиваться по мере того, как она всматривалась в его лицо, показавшееся теперь растерянным и озабоченным.
— Что идешь на базар.
— На базар? Зачем?
— Продавать лестницу, — обратил все в шутку Мурад.
— Тебе смешно. А мне страшно, за себя страшно, — со слезами в голосе проговорила она. — Ты ведешь меня по краю пропасти, я могу сорваться.
— Поэтому я и говорю: положим конец! — повышает голос Мурад. — И мне надоели эти опасные тропы, да, надоели. Брось все, аул, свой сельсовет и переезжай ко мне. Женой моей, полновластной хозяйкой. И тогда требуй от меня все, что хочешь. Ты же обещала.
— Да, обещала, но только тогда, когда переселю всех в Новый Чиркей, вручу им ключи от новойжизни…
— Но они никогда не переселятся, эти упрямцы…
— И прежде всего твой отец. Вот и помоги мне их убедить.
— Ты говоришь о невозможном… Где теперь твой муж? — резко повернул разговор Мурад.
— Со мной.
— Где?
— Вот он, рядом.
— Я серьезно спрашиваю: где он?
— Как будто ты не знаешь?
— Мне сказали, что он вернулся…
— Нет у меня мужа, нет! — Она схватила Мурада за плечи и начала трясти его, это была уже другая Султанат, она могла, не задумываясь, толкнуть его в воду, в это холодное глубокое озеро. Мурад даже попятился.
— Ты боишься меня!
— Ну что ты?
Султанат расстегнула ворот, с каким-то нервным ожесточением сняла с себя платье, бросив его на камни, сбросила туфли.
— Что с тобой? Такой ты никогда не была, — спросил Мурад.
— Не была потому, что так, как сейчас, никогда не жгло внутри… Ну что стоишь? Трус. — И она, оттолкнув Мурада от себя, бросилась в озеро. Только тугие длинные косы, как плети, взмыли в небо, где уже искрились ранние звезды. Звезды отражались в озере, колыхаясь на медленно расходившихся кругах.