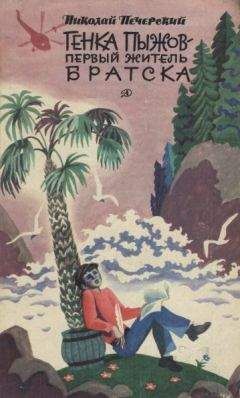— А ты, парень, не обижайся, — строго сказал Деримедведь. — Это я так, между прочим говорю. Хлеб, по-моему, вы честно ели: заработали.
После обеда, полдника или перекура мы снова хотели помогать Деримедведю. Но он просто-напросто прогнал нас.
— Марш по домам! — сказал он. — Жизнь у вас вся впереди, успеете поработать.
Волей-неволей пришлось уходить. Работали мы хотя и немного, но измотались здорово. Когда я поднялся, почувствовал — ломит спину и ноги стали тяжелые, как бревна, которые мы подкатывали плотнику. Но, несмотря на все это, настроение у меня было отличное. Я шел домой, рассеянно слушал Люськину болтовню и думал про себя:
«Вот он какой особенный хлеб. Мерзлый, твердый, разрубленный топором, а все же не такой, как всегда, — мой необыкновенный, трудовой хлеб!»
Глава двадцать восьмая
«ЧТОБЫ КАЖДОЕ СЛОВО ПЕЛО, СВЕТИЛОСЬ…» КОМАР ПОДСЫПАЕТ ПЕРЦУ В СУП. «ТЕРПИ, ГЕННАДИЙ!»
Много чудесных перемен произошло на нашей стройке. Много я за это время узнал, много увидел. Все-таки очень полезно ездить по земле, ночевать у таежных костров, плыть на легкой ветке— по сибирским рекам. Если у тебя есть творческое зерно, тогда еще лучше: ты не только увидишь и запомнишь все, что встретил на пути, но сможешь написать об этом и для других. Невелика тяжесть — тетрадка и карандаш. Им всегда найдется место в тугой, до отказа набитой походным имуществом котомке.
Кстати, а как же с моей тетрадкой? Может быть, Иван Иванович уже давно швырнул ее в мусорный ящик? Нет, до ящика дело не дошло. Иван Иванович приехал на стройку и в первый же день отправился разыскивать нашу квартиру. Жаль, что меня не было дома. Вечером, когда я пришел с катка, бабушка сказала:
— Только сейчас знакомого твоего проводила. Чаи с ним распивали. — А сама так и сияет. Прибирает посуду со стола и все твердит: — Ну до чего же человек обходительный! Семян веерной пальмы обещал прислать. «Я, говорит, хоть и сибиряк, а пальмы эти просто до ужаса люблю».
— А про меня он что-нибудь говорил?
— А как же, конечно… Очень хороший, самостоятельный человек… «Обязательно, говорит, пришлю»…
— Что пришлю?
— Семена веерной пальмы. Я же тебе уже сказала.
Так я ничего толком и не узнал. Бросил со злости коньки в угол — и за шапку.
— Ты куда? — спросила бабушка.
— К Ивану Ивановичу. Он писатель. Он мне сейчас вот как нужен!
Бабушка загородила дверь и не пускает:
— Ты мне брось чепуху на человека наговаривать — «писатель-расписатель»! Сам ты писатель! Сиди дома, и все.
Я шмыгнул у бабушки под рукой и был таков.
Пока добежал до дома Ивана Ивановича, чуть не сгорел от нетерпения. Остановился в дверях и слова сказать не могу. Из горла какие-то сиплые звуки вылетают.
Иван Иванович смотрит на меня и улыбается:
— Чего это ты так бежал? Алчные звери за тобой гнались?
Я сразу же понял, что Иван Иванович прочитал дневник. Это ж только Люська так на букву «а» говорит.
Я кое-как отдышался и говорю:
— Рассказывайте, Иван Иванович, понравился дневник или нет? Не мучайте.
Иван Иванович вдруг стал серьезным. Вынул тетрадку из стола, задумчиво и, по-моему, даже чуть-чуть нежно посмотрел на нее и сказал:
— Ты, Генка, не торопись и не тяни меня за язык. О таких вещах серьезно надо говорить.
— Так вы только одно слово скажите: хорошо или
плохо?
— Вот же чудак человек! Пятерки я тебе за дневник не поставлю, ты это так и знай, а поговорить придется обстоятельно.
Мне стало очень обидно, что Иван Иванович виляет и не хочет говорить прямо.
— Когда же вы со мной поговорите? — спросил я. — Со мной еще никто не говорил обстоятельно. Мне только писали из редакций: «Уважаемый товарищ Лучезарный. К сожалению…»
Иван Иванович положил мне на плечо руку и очень тихо, как говорят о самом дорогом, сказал:
— Не торопись, Генка, не надо. Дай почитать свой дневник ребятам. А когда все прочитают, мы обсудим дневник на литературном кружке. Пусть твои друзья выскажутся. Ты же знаешь: ум хорошо, а два лучше. Согласен с моим предложением?
— Ну да, согласен, — неохотно ответил я.
— Вот и молодец! Кстати, почему ты написал на дневнике «повесть»?
— Просто так… Разве он не похож на повесть?
— Не совсем… Впрочем, поговорим об этом уже заодно на литкружке.
— А как же я дам читать дневник ребятам? — спросил я. — Они же сами герои повести. Разве им можно высказываться?
— А почему нет? Если хорошо, скажут — хорошо, а если плохо — не взыщи. Героям виднее, как о них написано.
— Комару тоже повесть давать?
— Конечно, дай. Почему ты об этом спрашиваешь?— Комар ни за что не похвалит. Я его знаю.
— Зря так думаешь. Впрочем, и написал о нем ты тоже не совсем правильно. По-моему, в жизни он значительно лучше, чем в тетрадке. Правда, полностью я его не защищаю: писать на заборах — скверная и глупая привычка. Но ведь и ты не всегда относился к Комару по-товарищески…
Странно! Что же можно было еще сочинить о Комаре? Разукрасить его, написать, будто он замечательный, незаменимый товарищ? Нет, я просто не представляю, что хорошего увидел в нем Иван Иванович! Но так и быть, если Иван Иванович говорит, что дневник Комару надо дать, я дам. Пусть читает и краснеет за свои поступки. И Люське дам и Степке.
Я пришел домой и развернул тетрадку. Не знаю, поверите или нет, но у меня даже волосы стали дыбом. Вся тетрадка от начала до конца была разукрашена коротенькими красными черточками, вопросительными и восклицательными знаками. На последней странице стояла какая-то непонятная, загадочная цифра — 476. Что означает это крупное число? Отметка? Не похоже.
Долго я ломал голову над таинственной цифрой 476, но все же докопался до истины. Оказывается, это не отметка, а количество орфографических и синтаксических ошибок. Вот тебе и поучительная повесть? Любой двоечник по сравнению со мной круглый отличник. Как ни ищи, а четырехсотсемидесятишестерочников ни в одной школе не найдешь. Если бы Люська изучила словарь до буквы «у», она наверняка сказала бы: «уникальный писатель» — то есть очень редкий, сохранившийся в одном-единственном экземпляре.
Не знаю, что теперь делать. Хотел стереть пометки резинкой — резинка не берет. Протер такую дырку, что туда может свободно пролезть пуговица от пальто. Как же я буду отдавать такую дырявую повесть героям? Засмеют.
Но так или иначе, я решил отдать повесть героям. Если герои — эти свои, близкие люди — не поймут и не оценят моего труда, я сдаюсь. Пусть сочиняет веселую и поучительную повесть кто хочет, мне решительно все равно.
Я отправился к дому, куда недавно переехал Комар, и постучал в окно.
— Комар, выйди, пожалуйста, на минутку.
Мой герой, то есть Комар, понял, что произошло что-то необычайное, и тут же появился на крыльце.
— Что случилось? Пожар?
Я торжественно передал Комару тетрадку и сказал:
— Это моя повесть. Прочти внимательно. Будешь выступать на литературном кружке.
— Я не умею выступать, — смутился Комар. — Ты же знаешь…
Еще бы я не знал Комара! Только на заборах и умеет выступать… Но Комару этого я не сказал. Я вежливо пожал своему герою руку и ушел. Комар стоял на крыльце как громом пораженный…
Тетрадка моя переходила из рук в руки. Ребята многозначительно поглядывали на меня и шептались на переменках. Ну что ж, пусть шепчутся. Я ходил по школе с гордо поднятой головой и делал вид, будто ничего не замечаю. Но на сердце было неспокойно. Выносить повесть на суд общественности дело нешуточное.
Но вот наконец в коридоре, чуть повыше столика, на котором с утра до вечера лежит бронзовый колокольчик, появилось объявление:
РЕБЯТА!
Сегодня, в 6 часов вечера, состоится
первое занятие литературного кружка.
Просьба не опаздывать.
Когда я пришел в школу, зал уже был почти полон.
В самом конце стоял длинный стол, а на нем — большая чернильница из учительской и графин. За столом сидели учитель и Иван Иванович. Он увидел меня и дружески кивнул головой:
— Иди сюда, садись рядом.
Ребята услышали и: ахнули. Ну что ж, напишите повесть — будете сидеть в президиуме и вы. А пока терпите и смотрите на меня, Геннадия Пыжова.
Время приближалось к шести. В зал один за другим входили всё новые и новые мальчишки и девчонки. Герои моей повести расположились в передних рядах. Они просматривали свои выступления и шевелили губами, как колдуны. Все страшно волновались. О себе я говорить не буду. И так ясно.
Первым на занятии литературного кружка выступил наш учитель, за ним — Иван Иванович. Сейчас я уже не помню всего, что говорил Иван Иванович, но основные мысли я записал.
— Сегодня, на первом занятии литературного кружка, мы обсудим дневник вашего товарища, Геннадия Пыжова, — сказал Иван Иванович. — Геннадий рассказывал мне, что некоторые ребята смеются над ним, дразнят писателем. Это очень нехорошо. Сегодня будете смеяться над Геннадием, завтра над другим, потом над третьим. Так у нас ничего не выйдет, и литературный кружок рассыплется. Верно я говорю?