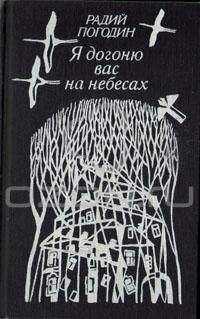Тут и выяснилось, что номера своей пехотной части солдат не помнит. Фамилии командира не знает. Оголодал в запасном полку под Харьковом. А в горохе со свининой, которым пополнение накормили от пуза, свинина, мягко говоря, была несвежая.
— Умрешь, — сказал ему Писатель Пе.
— Умру, — согласно кивнул солдат. — Но не сдамся.
Вот и привез Писатель Пе этого героя к нам в роту. Более того, к нам в отделение.
Звали его Павел, или, как он представился, Паша.
Солдатская книжка у Паши была, но с нехорошим запахом. Мы ее выбросили.
У нас был уже упоминавшийся гусеничный транспортер, канадский, — насмешка над военной мыслью. При сильном торможении шел юзом и норовил подлезть под тридцатьчетверку. Да и мелкий он был, как сковородка. Называли мы его Ящик.
С Пашей валандаться нам было некогда. Посовещавшись, мы бросили его на дно ящика, укрыли его шинелями и — вперед.
Но этот тип высунул голову из-под шинелей и заявил, что ему надо сливухи попить. «Сливуха меня наладит, — сказал он нам доверительно. — Сливуха — проверено. Нету для этого дела ничего лучше». Мы затолкали его под шинели и набросились на Писателя Пе. Обрисовали ему в скорбных выражениях ситуацию — мол, не хватало нам в машине чужого поносника, так он еще и, нате вам, алкоголик: «Сливуха» его поправит, а почему, спрашивается, не «Запеканка», не «Зубровка», не «Спотыкач»?
Паша пролежал на дне нашего ящика, «гробом» творение канадского гения мы все же остерегались называть, до вечера — может быть, и ночь — проспал бы, но мы затеяли картошку варить с тушенкой, у нас для этой цели была медная румынская кастрюля.
И вот тут, когда Егор снял кастрюлю с огня, из призрачного пространства вселенной появился Паша с котелком в руках.
— Сливуха, — бормотал он. — Сливуха…
Егор сначала не понял, даже топнул на Пашу ногой, но тот бесстрашно и деловито отобрал у Егора пилотки, ведь именно пилотками нужно брать медную румынскую кастрюлю, чтобы слить воду с картошки. Паша слил эту воду в свой котелок и, обжигаясь, принялся ее пить.
— Теперь пройдет, — сказал он. — Когда вы ночью за языком пойдете, я уже буду здоровый. Я с вами, я отчаянный…
Ночью мы за языком не пошли, мы вообще не часто за языком ходили — ночью мы слетели с откоса. Транспортер наш перевернулся, вывалил нас и на широком лугу снова стал на гусеницы. Нас помяло, а Буке Спиридону раздавило канистрой грудную клетку. Высоты бортов не хватило для Спиридоновой груди и для канистры.
Мы расстегнули ему гимнастерку и рубашку. И при свете фонарей увидели, как расползается у него на груди от сердца фиолетовое пятно. Когда у Спиридона из уголков рта потекла кровь, мы сняли пилотки.
Только что дождик прошел, оттого мы и соскользнули с асфальта. И задача у нас была пустяковая — проверить данные агентурной разведки о скоплении немцев на шоссе южнее Демблина.
Буку Спиридона мы знали мало, он недавно пришел к нам с пополнением из госпиталя, но воевал умело. Что значит умело? За ним не нужно было приглядывать.
Кто тогда плакал? Водитель. Он от досады плакал, что такая машина хреновая. Он потом погибнет как дурак — примется ковырять найденный в березовом колке фауст. Не саму гранату — гранату он снимет, — но трубку-патрон. Ему выжжет лицо.
И плакал Паша.
Тогда мы его и решили оставить — и кто знает, было ли это решение для него лучшим.
Рассказ о Паше и его любви, наверно, возьмет на себя лишку в каком-то общем равновесии повествования. Но так ли это важно?
Сейчас Писатель Пе и его товарищи вдруг заговорили о форме. Некоторые из них даже знают, что это такое. Они якобы даже могут определить на глаз формообразующее действие и формообразующее членение.
Но если даже не принимать их хвастовство во внимание и считать за форму некий баланс самодовлеющих равновесий, даже некий их агломерат, симметрично или асимметрично скомкованный, то и тогда наши рассуждения будут приемлемы для систем очерченных — для формы парков, но не для формы леса.
Цыпленок, разрушающий идеальную форму — скорлупу яйца изнутри, являет нам свое чудо: он тоже форма и тоже идеальная. Но это слабее леса. И как, по сути, смешно звучат выражения — лес мачт или лес столбов.
От леса столбов легко перейти к трансцендентной мудрости Махаяны Сутры с ее доктриной о «пустоте формы», о нереальности всех феноменов и ноуменов — все пустота; перцепция и концепция, название и знание — все пустота; что пустота, то форма, что форма, то пустота. Главное — уничтожить призрак сознания.
Так что уж лучше пускай берет на себя Паша лишний пригорок или болотце. Правда, лес мой очищен, поскольку я исключил из него описание боев и походов за языком, таких описаний в советской литературе много, особенно «за языком», среди них есть и хорошие.
И тем не менее лес мой хоть и мал, но все же лес.
Пашу зачислили к нам, и он вскоре прославился.
Канадская машина утонула — сорвалась с моста и плашмя, как сковородка, шлепнулась в реку.
Нам дали новую машину — американскую «М-3-А-1». Тройку мы приняли за букву «З», и транспортер свой называли «МЗА» — слово странное, но нам нравилось. Нам в машине все нравилось. Броня, двигатель «Геркулес», крепкие пневматические колеса — не гусматик, значит, у машины легкий ход. Пулеметы! Они катались по рельсовой балке легко и бесшумно — два браунинга, крупнокалиберный и простой. Красивые, черные. Не вороненые, а черные, матовые. И металлические ленты. Патрон, собственно, играл в ленте роль скрепляющего звенья штифта. Это нам нравилось. Нам нравились длинные латунные молнии на брезентовых подушках кресел водителя и командира. Остальная команда сидела на двух рундуках. А в рундуках-то что было! В брезентовых, на молнии, мешках — американский неприкосновенный запас с пастеризованным пивом — запас этот съели еще где-то в Мурманске, — но легенда! Важна легенда. В рундуках еще были складные консоли и брезентовый тент от дождя.
С бронетранспортером прибыл к нам Толя Сивашкин, младший сержант. Представился нам как командир машины. Мы долго и громко обсуждали, нужен ли нам таковой и что он будет делать в бою. И решили, что нельзя обижать ученого человека, тем более младшего сержанта, а нужно его проверить.
— Пойдешь языка брать, — сказали мы ему. — Приведешь одного или двух к утру. Командир роты очень любит утром языков допрашивать на опохмелку. Он у нас пьющий.
Этот Сивашкин Толя пошел бы. Убей меня Бог — пошел бы этот Сивашкин Толя с печальными голубыми глазами и голубизной вокруг глаз. Он даже спросил: «Куда?» Его отрезвил Паша Сливуха, объяснив, что фронт отсюда километров за триста. А нам сказал с укоризной:
— Нельзя так разыгрывать человека. Нехорошо…
— А как можно? Ты покажи ему свою рану. Объясни, почему тебе немец в это место попал.
Паша был ранен в ягодицу. Но он не смутился. Ответил:
— А не надо высовывать. Что высунешь, в то и получишь.
Прибыли мы в это местечко в Западной Белоруссии из-под Варшавы, где нас причесали волосок к волоску, на прямой пробор. Немец выставил против нашей армии, поиздержавшейся в Румынии, дошедшей своим ходом от южной границы Польши до Варшавы, две свежеукомплектованные дивизии.
Теперь мы получали новые танки и пополнение. Вот машину получили американскую и Толю Сивашкина.
Стояли мы тогда в каком-то захудалом поместье, огороженном кирпичной стеной из красно-оранжевого кирпича. Лесок веселый к стене вплотную. А настроение наше плохое. Чего же может быть хорошего, когда из-под Варшавы армия ушла без танков. А людей?! Про людей как-то в танковых армиях не говорят — на машины считают, на экипажи.
Толя Сивашкин с нами в дом не пошел — вероятно, побаивался нашего юмора. Был он в новеньком обмундировании, в новеньких погонах, даже в сапогах кирзовых, что нас больше всего насторожило. В сапогах, по нашим понятиям, только писаря ходят, кладовщики да ординарцы, у которых командиры в чине не ниже полковника. А боевой солдат, он в обмотках и говнодавах. Студентку Марию прошу простить меня за грубое выражение, которое, впрочем, мы произносили отнюдь не для унижения нашей солдатской обуви, но, напротив, для ее возвеличивания. Поскольку с некоторых пор говном считали Адольфа Гитлера.
Паша остался с Толей. Мы ему сказали: «Вот и хорошо. Наряд выставлять не надо. Доверяем вам военную технику и все такое, что в ней теперь лежит». А лежал в ней копченый окорок, котомка с луком, полмешка сахару и мешок картошки.
Поначалу в доме была какая-то суматоха, крики, чуть ли не драка. Когда солдаты выходят из боя почти в чем мать родила, они еще долго нервничают.
Потом утихло все. Уснули все. И вот тут заработал наш крупнокалиберный пулемет. Мы даже сначала и не поняли, что это наш, мы его голоса еще не слышали. Но сообразили быстро. Побежали к машине.
Хотя и пламегаситель на пулемете, но все равно мерцающий свет — как розовый луч. И тут же второй звук, словно близкое эхо, как будто в ответ кто-то стреляет.