Пустырь, на котором выстроили поселок, все-таки был частью степи. Безграничная равнина за кубами домов принимала новый день, до того пышный, радостный и грозный, словно его трубили в фанфары, били в медные литавры. Казалось, там, где бурьян переходит в ковыли, начинается сейчас сражение, с бунчуками, пращами, булавами, самострелами и — к черту анахронизмы! — с аркебузами, каронадами. Веселая половецкая кровь легко мешалась с кровью драчливых героев Гоголя, Сенкевича. Память подсовывала Изяслава Игоревича на белом коне и его двоюродного брата Игоря Святославича, и зигзицу, и пана Володыевского, и узкие прорези монгольских очей, и шишаки, и перья на шлемах, и крылья гусар. День готов принять на себя всю путаницу, которую, в одышке восторга, старая писательница валила на его сияющее течение.
Писательница все еще никак не могла освоить степь, привыкнуть к этому безграничному пространству, с черноземной почвой и недостатком воды как условиям земледелия. Степь представляла для нее некую отвлеченную, пейзажно-историческую красоту, и она могла всерьез грустить, что только в заповедниках сохранились куски непаханой почвы с высоким серебристым ковылем. Вот и сейчас субстанциональность степи, огромность горизонта, казалась ей непреодолимой: невозможно заселить ее, заставить домами, заводами, фермами, силосными башнями, мазанками, скирдами, всем беспокойным, человеческим, рабочим, практическим. Вот шагает путник под куполом неба, по бескрайней сфере земли, из неизвестности в неизвестность… Как успокоительно помечтать об этом, отождествиться с легким на ходьбу, неутомимым странником, в сущности, только с тенью человека, существом без потребностей, без желаний, без боли, но «живым», то есть двигающимся. Каждому, как Гоголю, хочется обратиться в одни сплошные ноздри, в одни сплошные глаза, ноги, руки, кожу, чтобы всем этим ощущать запахи, видеть цвета, овеваться ветром, наслаждаться теплом и прохладой, сменой мест — и в то же время не думать, не страдать, не ведать старости и мыслей о старости, мыслей о конце этой лишь дитяти кажущейся бескрайней степи…
Однако с пейзажной мифологией пришлось скоро покончить. Воины и аркебузы снова убрались в даль веков, а степь все-таки заставилась конструктивным поселком, за которым гремел город, дымили фабричные трубы, катились поезда. И там, в потном, требовательном мире труда, угнездились дело и чувство писательницы. Она спохватилась, будто запаздывала повесить номерок на табельную доску, и побежала на завод.
Осторожно проникла она через ворота на черную землю завода — опаска имела оправдание в недавнем приключении — и на потеху встречным, если те обращали на нее внимание, брела, цепляясь за стены. Так добралась она до конторки утильцеха. Ее сразу обдало сумраком и шумом цеха, словно за стеной сверлили бормашиной огромный зуб. С этого момента сверлящий гул навсегда связался для нее с сумраком конторы, с немытыми, будто специально предназначенными фильтровать дневной свет стеклами, потому что естественный дневной свет здесь не годился, и с особой натянутостью нервов. Писательница понимала, что наделала невероятных глупостей, вламываясь в семейные дела Павлушина, и пухлый орган самолюбия неопределенно ныл, ожидая каких-то вполне заслуженных неприятностей.
Она поздоровалась с Павлушиным и Досекиным, кивнула в ответ на церемонный поклон калькулятора и села в сторонке на табурет, как бы давая понять, что зашла всего лишь передохнуть. Взяла даже газету, спряталась за нее.
Досекин что-то слишком часто отрывался от своих ведомостей, вынимал часы, поглядывал на дверь, словно вот-вот кто-то войдет и разрешит напряжение. А напряжение чувствовала не только одна писательница.
Лицо этой молча восседавшей посетительницы выражало такую величественную задумчивость и важную горечь, что доходивший в дружеских отношениях до болезненной деликатности Досекин старался обходить ее взглядом, как бы опасаясь, что даже взгляд может обеспокоить сосредоточившуюся в себе гостью цеха. Но когда главный герой и начальник цеха, как всегда непроницаемо, на мгновение воззрился на нее, она вдруг поняла, что Павлушин не меньше ее смущен вчерашним. И это ее сразу успокоило.
Основным в то утро тоном внутреннего состояния Павлушина была телесная радость, оттого что он победил малую болезнь от прививки против брюшного тифа и может не бояться большой. Однако вчерашние происшествия, ворвавшись в его кое-как налаженное после столкновения с дочерью и сыном душевное хозяйство, произвели там новые перестановки. Эти перестановки все время напоминали о себе и этим мешали существенным и в сущности радостным заботам о цеховых делах. Не доведя свою мысль до полной отчетливости, он хаосу и мутному психологизму семейной жизни противопоставлял ясность, твердость, изученность массовой и производственной жизни цеха и завода. Любое недоразумение, любая неполадка в мастерской имели название, предусмотрены учеными, инженерами и в великих книгах марксизма. Вопрос заключался только в том, чтобы правильно применить к данному случаю книги и опыт. Иное дело даже небольшие семейные свары, которые вырастают порой до того, что люди не могут видеть друг друга. Такие мелкие личные случаи ускользают от ячеек великих научных сетей, охватывающих общее и не занимающихся частным, даже не дающих себе труда назвать эти частности. Да и у самого Павлушина никогда не возникало особого интереса к этим частностям, пахнущим юбками и пеленками. Его призвали, и он пошел решать судьбы человеческой жизни на больших полях труда и социального переустройства. Идея о том, что разумное социальное построение общества сразу и начисто устранит все личные, частные неурядицы, относилась к самому основному, самому важному инвентарю непоколебимых истин. Если бы эту истину изъять из сознания Павлушина, он вышел бы из строя живых, обездоленный и нищий. Впрочем, это было бы так же странно, бесчеловечно и ненужно, как вырвать у агитатора язык или выколоть художнику глаза. В этом простом уме порядок и наличность основных идей — и идея о том, что его судьбу, как и судьбу его сына Петра и дочери Анастасии, перестроит и устроит, исправив все изъяны личности, социализм, — равнялись психическому здоровью. Вмешательство писательницы произвело расстройство совсем не в тех, вернее — не совсем в тех пунктах, которые смущали самоё писательницу. Павлушин относил свою биографию и личную судьбу к разряду особенно мелких фактов и, как таковые, считал их своей неотъемлемой собственностью. Это первое. Второе: в бытовую муть, откуда выходят эти факты, науке и общественному разуму стыдно заглядывать. Если бы ему растолковали, что таким аргументом он защищает мелкобуржуазную уединенность своей семьи от пролетарского коллективного содействия, а только одно оно способно развязать его узел, если бы за дело взялась, скажем, цеховая ячейка, он подумал бы и согласился. С радостью победил бы внутренний протест против вмешательства.
Сегодня Павлушин, до конца одолев болезнь прививки, пришел работать. Работа всегда укрепляла его в реальности того дела, общего дела, за которое он был готов отдать свою кровь.
«Раз я, Павлушин, заворачиваю цехом, а не ругаюсь с паровозным кочегаром, который лениво шурует уголек, стало быть — живем! Стало быть — мы строим!»
За право сказать себе эту бесспорную истину он убил бы любого врага, как убивал беляков на фронте. При таком отношении обыкновенное выполнение обязанностей превращается во всецелое отдавание всех своих умственных сил и способностей и тем самым оборачивается в нечто равнозначное творческому процессу.
На писательницу Павлушин взглянул с недоумением и легкой морщинкой сомнения. Находит же, в самом деле, толк эта умная, образованная женщина (как быстро она пишет, любо посмотреть!) в том, чтобы бегать то к Петьке, то к Настьке, то к нему и говорить обо всей этой бузе, ерунде, вздоре так, как мало кто разговаривает и о судьбах мировой революции. И, самое главное, она открывает смысл и глубину там, где он со стыдом видел только унизительную бессмыслицу.
Вот этот застенчиво-недоуменный взгляд и перехватила писательница.
Павлушин вдруг почувствовал, что не может заниматься разработкой доклада дирекции о развертывании цеха. Дело должно дать ему более реальные проявления своей живости, требовательности, сложности. Главное — не сидеть наедине с бумагой и не следить, как в голову пробивается нечто жгучее, но постороннее работе.
Павлушин бросил взгляд на свое запястье с дарственными часами Реввоенсовета армии и встал.
— Пойду в штамповальную. Досекин, если кто будет спрашивать, через двадцать минут вернусь.
И обратился к писательнице:
— Хотите посмотреть штамповальное отделение? Там новые станки.
— Спасибо, мне здесь нужны кое-какие цифры.
— Тогда к товарищу Досекину…
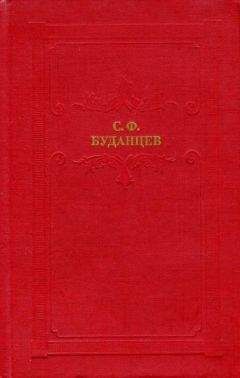



![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)
