Вот этот застенчиво-недоуменный взгляд и перехватила писательница.
Павлушин вдруг почувствовал, что не может заниматься разработкой доклада дирекции о развертывании цеха. Дело должно дать ему более реальные проявления своей живости, требовательности, сложности. Главное — не сидеть наедине с бумагой и не следить, как в голову пробивается нечто жгучее, но постороннее работе.
Павлушин бросил взгляд на свое запястье с дарственными часами Реввоенсовета армии и встал.
— Пойду в штамповальную. Досекин, если кто будет спрашивать, через двадцать минут вернусь.
И обратился к писательнице:
— Хотите посмотреть штамповальное отделение? Там новые станки.
— Спасибо, мне здесь нужны кое-какие цифры.
— Тогда к товарищу Досекину…
Он вышел, хлопнув дверью, — точность движений покинула его. Впрочем, это заметила только писательница.
Досекин поманил писательницу к себе. Борода его шевелилась, как от сильного ветра, глаза наполнялись влажным блеском и лукавством, все большое лицо изображало желание рассказать нечто весьма занимательное, нечто, несмотря на смешную оболочку, в которую оно заключено, серьезное, несмотря на ветер в бороде, значительное, к тому же секретное, хотя о нем и предупреждает весьма явная игра. Писательница подсела к нему, и он тотчас закипел гулким клохтаньем, которое считал шепотом, но которое заглушало вой цеха:
— Спектакль нынче у нас. Вы не уходите. Я ведь знаю, как вы к Насте в казарму ходили, агенты у меня… — Он захохотал, но тут же оборвал себя и поглядел на все окружающее свирепыми глазами. — Как член семьи… Вчера ночью дочка к Павлушину вернулась, та, у которой вы побывали. Поздно, в первом часу. Вкатилась — и прямо в ноги. Разливается в три ручья: «Прими, папаша, больше не буду».
— Дело было не совсем так. В ноги не падала и почти не плакала.
— Значит, сами видели? — довольно безучастно спросил Досекин. Любитель круглых описаний, он не хотел уступать никакому очевидцу. — Полгода девчонка дома не жила. Холод надвигается, осень, ночью не очень-то босиком побежишь, а она босиком явилась. Тапочки на работу бережет, туда босой тоже неудобно… Отец, конечно, не каменный, Раиса Степановна тоже в слезы… Под родной кровлей нынче Настюшка ночевала. Все это мне сам Павлушин рассказал. А я про свое молчу… Вчера, видите ли, забежал ко мне мастер Головня, — знаете, маленький такой? А с ним еще один парнишка, из деревообделочной мастерской. Говорят — можно было все-таки Петьку Павлушина в оборот взять, на дело направить… Вот и жду сейчас ребят.
Он вдруг резко откинулся от стола и замолчал, — вернулся начальник цеха. За ним следовали двое рабочих. Один — высокий, широкоплечий парень с маленькими, странно широко, почти над скулами посаженными глазками, насмешливо посматривающими из-под большого козырька кепки. Когда он улыбался, в лице его проявлялась особенно неприятная черта: открывалась узкая полоска мелких, точно спиленных зубов и широкая кайма розовой десны. Другой рабочий был очень молод и очень белокур. Держался он за спиной первого, как-то сбоку, будто уступал ему место не только по молодости, но и от смущения, хотя вообще подобные невысокие, худощавые, белокурые и голубоглазые, на первый взгляд незаметные, люди в работе сильны и выносливы, а в поступках редко действуют без расчета, что-нибудь начав, добиваются своего.
Вид у широкоплечего парня был решительный и возбужденный, он словно еще за дверью усиленно настраивал себя на спор.
Писательница струхнула за Павлушина. Ей припомнились различные случаи насилия, которому подвергались строгие и справедливые администраторы. А этот, со спиленными зубами, может и голову камнем проломить.
Однако Павлушин спокойно сел на свое место и сразу взял какую-то бумагу с таким видом, что всякие посетители отнимают у него дорогое время. Он давал, таким образом, вошедшим возможность одуматься. Но парня со спиленными зубами трудно было взять подобной пантомимой.
— Нет, ты мне отпуск вынь да положь, товарищ Павлушин! Мне полагается.
— Я же сказал: отработаешь, тогда пойдешь.
— Какой я специалист… Я переквалификант, — тянул свое парень, все шире показывая в кривой улыбке розовые десны.
Белокурый молчал, только пытливо переводил взгляд с затылка высокого на лоб Павлушина.
— Сделает ваша бригада три тысячи задвижек, вот тогда пущу. У вас прорыв. Вы мне весь цех обгадили. Да что там цех — весь завод! Строим комбайны, строим электроплуги, выполняем программу по сложным машинам, а с задвижками справиться не можем!
Эти задвижки были, видимо, больным местом цеха, и Павлушин мог к ним возвращаться не раз и не два.
Выдвинув на середину конторы короткую лавку, высокий парень уселся на нее, приготовившись с терпеливым упорством выслушать все, но поставить на своем.
Павлушин горячился, но сдерживал себя. Должно быть, как всегда, он находил в борьбе с собой и в широких обобщениях убежище от напряжения и тревоги, вызываемых в нем столкновением с личным, хаотическим и, несмотря на мелкость, непреклонным. Этот парень имел какую-то родственную связь с его воспоминаниями, он, как и эти воспоминания, явился непрошеным.
— Уйти сейчас, товарищи, значит дезорганизовать, драпануть с поля сражения!
Хаос отступал, Павлушин снова находил себя, свое равновесие и волю.
— Тут вам не деревня: как вздумал, так и пошел с поля в клуню. Да и деревня нынче не такая. Задвижка сейчас — фронтовое задание. Каждой задвижкой мы убеждаем колеблющегося, укрепляем союзника.
Белокурый отступил в тень, к выходной двери, давая понять, что снимает с очереди свою просьбу и не выкладывает этого во всеуслышание лишь потому, что вполне согласен: вылез сейчас с отпуском зря.
Но Павлушину нужно было подтверждение, что его слова побеждают чужой хаос, и он спросил у белокурого:
— Что, товарищ Полетаев, отказываешься от своего заявления?
— Вижу, своего надо добиваться по-иному, — отозвался голос у двери.
Дверь скрипнула, открыв свой прямоугольник. Красная кирпичная стена, столб, груда лома и над всем этим видимое, как воздух ощутимое небо. Парень, очевидно, подержал дверь, а потом плотно ее затворил.
Высокий даже не оглянулся. Заметно заскучав, он промямлил еще настойчивее:
— А ты все же пусти меня в отпуск, товарищ Павлушин. Я от своего не отступлюсь.
Павлушин побагровел, стукнул по столу обоими кулаками.
— Ты кто? Военный? — крикнул он. — В Красной Армии служил? На недавнем сборе был? Отвечай, Бубликов: зачем был на сборе?
Бубликов разом вскочил с лавки. Но, тут же оправившись от окрика, плечи развернул уже помедленней и стоял вразвалку. Павлушин коротко взглянул на него, и он вытянулся, сдвинул ноги пятки вместе.
— Был, как полагается… Чтобы во всякий момент оборонять от врагов пролетарскую республику, СССР то есть.
Писательница с любопытством созерцала происходящее. По-прежнему сжимая кулаки, Павлушин вопрошал:
— Значит, тебе втолковали, что надо делать на фронте? А завод сейчас тот же фронт. Забыл?
Парень, видимо, оробел. Надвинул кепку на глаза.
— Разговор кончен, — холодно прибавил Павлушин. Слишком сильные средства пришлось, по его мнению, применять к Бубликову, настоящий рабочий должен с полуслова понимать такие вещи. — Ступай на работу. Через декаду получишь отпуск. А сейчас гоните вовсю задание. Мое слово твердо: сказал — «через декаду», так и будет.
Парень сделал поворот кругом и, крепко ступая на пятки, вышел. Досекин расправил бороду, сказал что-то о командирах, которые ходили на Сиваш, и при этом так победоносно глянул на писательницу, словно она и была разрушенным неприятельским укреплением.
— Сиваш Сивашем, — сухо заметил Павлушин, — а Полетаев мне крепко не нравится. На бузу эту с отпусками он подбивает ребят из штамповального отделения… Бубликов у него на поводу.
— Полетаев — сын раскулаченного. Последний год, правда, был мало связан…
— Там разберутся, как он был связан, много или мало.
Оба углубились в бумаги. Для них и бумаги были самой действительностью, тем же, что и разговор с Бубликовым и Полетаевым. А вот книга может быть и более значительной, чем отдельные явления действительности, но она никогда не будет самой этой действительностью, — если исключить отношение самого автора. И писательница вдруг почувствовала себя осиротелой, будто ее отставили в сторонку ради более серьезных и насущных занятий. Это ее рассердило и придало смелости. Она придвинула табурет к столу начальника цеха и попросила разрешения оторвать его от работы, чтобы задать вопрос.
— Пожалуйста. Что такое?
Она наклонилась к самому его уху:
— Я понимаю: если затеять против него дело, его происхождение явится для него отягощающим моментом… Однако я не вижу связи между отпуском и происхождением.
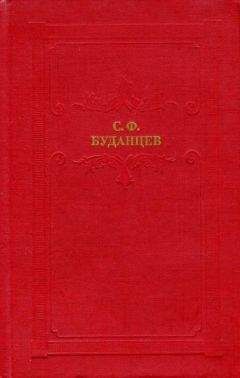



![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)
