Не этот ли его сын был когда-то плаксивым и болезненно обидчивым мальчуганом, который так медленно поправлялся после страшной смерти матери и старшего брата, после голодовки. И вот он стоит сейчас, как на лобном месте, посреди комнаты в шутовском наряде, с толстыми ногами в ластиковых штанах и в лазоревом пиджаке, который он лишь недавно сшил на свой заработок и теперь изорвал и загваздал. Черты уже сложившегося человека проступают сквозь еще детскую округлость лица, он коренаст, здоровяк. И стоит ему, как только что, смущенно улыбнуться — он становится юношески миловиден. Но откуда у него эта нахальная развязность, с какой стоит он, подбоченясь, глядя поверх всех? Не сознает ли он, что в дорогой для отца распорядок служебного дня ворвался осколком хаоса?
И отец растерялся. Даже губы распустились в почти плаксивой гримасе, пальцы забегали по столу, глаза воровато старались миновать предмет, на который им хотелось уставиться.
— Вот я и явился, нигде не запылился! А ты, папаша, не робей, — произнес Петр в тишине, которая, если можно градуировать отсутствие звуков, была в предпоследнем градусе.
Дружный хохот разорвал чрезмерное напряжение неловкости и необычности. Первым захохотал не то Павлушин — широко и отчетливо, будто в хохоте овладевая собой, не то Досекин — тонко и раскатисто. Их голоса мгновенно подхватили другие. Засмеялась и сама писательница, прежде чем даже поняла здоровую основу этого веселья, прервавшего горечь странных минут.
— Не робей! — крикнул кто-то у стены.
Хохочущие двинулись на середину комнаты и теснили Петра к столу отца.
— Папаша, не робей!
Выкрикивая эти слова, люди вкладывали в них самый разнообразный смысл, и, едва затихнув, смех приобретал прежний размах. Окружающие как бы старались дать время для главных действующих лиц собраться с силами и одновременно смягчали смехом и необычность зрелища, и свое бесцеремонное любопытство, заставлявшее их досмотреть это зрелище.
Но постепенно смех сделался качественно иным. Слова «не робей» начали приобретать для многих особенное значение, и разгадка их заключалась в том, что сын, в своей развязности, не признает авторитета отца, тогда как этот его авторитет, как товарища и начальника, безусловно признают все.
Павлушин первый почувствовал, что постепенно разорвалась связь с первоначальным благотворным взрывом и дело уже касается таких устоев, которые он воздвигал всем трудом своей жизни. Довольно и того, что его семейные дела стали достоянием всего завода. Павлушин теперь уже вполне овладел собой и наблюдал обстановку.
Сам виновник смеха, Петр, смеялся меньше других. Он стоял, переступая с ноги на ногу, гордый от сознания себя средоточием минуты. Он наслаждался, как артист после удачного выступления.
Писательница тоже лишь наблюдала, позабыв, чему только что смеялась. Ей показалось, что Павлушин чем-то недоволен.
Затихли и все остальные. На лице Павлушина проступило новое выражение, мало похожее на ту растерянность, которой он встретил первый взгляд сына. Он сделался, как всегда, серьезен, всем своим видом знаменуя скорее желание выслушать, нежели что-либо высказать самому. Около Пети вновь образовался полукруг ожидающих, что воспоследует дальше, людей. Самым незаинтересованным и благодушным оставалось одно лишь его нагловато ухмылявшееся лицо.
Тогда встал беловолосый молодой человек, и Досекин объявил:
— Слово имеет товарищ Карл Эних, секретарь нашего заводского комсомольского комитета.
— Ты не осудишь нас, дорогой товарищ Павлушин, за наш смех и радость. Мы нашли Петра и поговорили с ним. Наши комсомольцы, в первую очередь товарищ Файнштейн, поставили вопрос о том, что ему надо вернуться в здоровую рабочую среду. Это был длинный разговор, пока Петр наконец не заявил, что действительно хочет вернуться, потому что он с нами, с рабочим классом. Несомненно, он находился до этого в плохой среде, в этих полукустарных ремонтных мастерских. Сейчас там возбуждено дело против нескольких человек, которые расхищали запасные части автомобилей и тракторов, государственное достояние. А это — последнее дело и настоящее вредительство. Только в такой среде и могут вырастать нездоровые настроения, овладевшие Петром. Но, как мы считаем, это у него наносное. Сердцевина его, пролетарская, павлушинская сердцевина, мы верим, здорова. Он теперь будет жить среди нас как товарищ, мы окружим его нашим товарищеским вниманием и дадим ему ту среду, в которой он так нуждается.
Эних был белокур, благообразен, крепко и хорошо сложен. Свежий его голос звучал ровно и уверенно. И он радовался. И эти свои чувства ему удавалось высказать в формулировках наиболее близких к тому, что можно обрести в речах, в письмах, в газетных заметках. Именно поэтому его заявление прозвучало как несокрушимое волевое изъявление всех находившихся в этой комнате. Только писательница, всю жизнь искавшая собственного выражения и не понимавшая находок общеобязательных формул, не поняла и этой могучей резолютивности.
Павлушин оставался настороженным. Вероятно, он считал, что проявляет слишком много чувства в деле обращения сына, а комсомольцы подняли это обращение как общественное событие.
— Где же вы думаете назначить ему работать? С заводоуправлением согласовали? У меня в цеху слесаря нужны.
— Нет, — ответил Эних, — Петр пойдет в главный сборочный цех. Пусть встанет к высокой технике. Вопрос согласован.
— А жить он будет, — сказал очкастый Файнштейн, — в образцовом комсомольском общежитии. Не можете вы, товарищ Павлушин, сработаться с сыном, поэтому надо ему первое время пожить в нашей комсомольской среде.
— А не в моей, — тихо, как бы про себя, сказал Павлушин.
Его замечание услыхала и вполне поняла одна писательница.
— Мы возбудили перед городским советом и комитетом партии вопрос о том, чтобы до основания снести самочинный поселок Нахаловку, а тех в ней, кто достоин имени и звания рабочего, расселить в городе.
— Это правильно, — горячо присоединился Павлушин. — Надо приветствовать инициативу нашей молодежи и всячески поддержать. Нахаловка — скопище всяких безобразий и даже преступлений.
— Тут я должен признать, что товарищ Павлушин прав, — продолжал Файнштейн. — Наш уголовный розыск плохо смотрит за тем, что там делается. И по нашему настоянию торговка барахлом, пьяница и шинкарка, у которой проживал Петр, сейчас арестована.
— Пашета?.. — вскрикнул Петя и как-то сразу притих.
— Да, — жестко ответил Файнштейн. — Надо сжигать все мосты. Ну, об этом, Петя, еще успеем поделиться в своей среде.
— Что, крепко мы взялись за твоего сына, товарищ Павлушин? — спросил Эних. — В надежные руки отдаем его.
— В крепко надежные, — ответил за Павлушина Головня, сменный мастер цеха.
— Одним словом, не робей, папаша! — ввернул Досекин, желая вызвать беззаботного бога смеха. Но никто даже не улыбнулся.
— Что ж, товарищи, и из этой истории надо делать политические выводы.
Павлушин встал с места, обретая ораторскую уверенность.
— Много бы можно сказать, да не стоит, все ясно. Однако родителям надо о детях подумать. Потому что мой урок — дорогой урок. И не к чему другим его повторять на своей шкуре. Что скрывать, большая обида, когда нельзя родного сына взять в свою семью. Но я понимаю — нельзя. И если наш комсомол справится за меня с этим парнем, спасибо ему.
Павлушин махнул рукой и сел.
Сколько бы зубоскальства возбудило среди московских знакомых писательницы развернувшееся в цеховой конторе действие! Какие извивы приспособленчества обнаружили бы они в поведении Павлушина, который отдал личное горе «на растерзание кривотолков», да еще называет это политическими выводами! И что за вкус к заседаниям, в какое обратилась беседа о младшем Павлушине! Или эти люди не знают, что такое «интимная» жизнь? Или только жизнь в шумном улье кажется им единственно возможной и они готовы совершать все ее отправления на людях?..
Но сама писательница добросовестно вникала в простейшие побуждения, самые естественные и распространенные здесь. Да, люди здесь простые, и говорят они то, что думают. А главное, говорят то, что намерены выполнить на деле. И эти их слова и дела возможны только в СССР, в стране с новыми и для любого иностранца мало понятными отношениями и обычаями.
Эта ее мысль показалась писательнице жгучей до физической ощутимости. Она встала, отошла к двери, снова вернулась на свое место, обуреваемая страстным желанием додумать то, что рождалось сейчас в ее голове.
— Мне завтра становиться на работу? — напряженным басом спросил младший Павлушин.
Он все еще был распален токами внимания, которое, сосредоточившись на нем, обещало его не покидать. У него горели уши, щеки, как от зноя и ветра. Казалось, в нем теперь столько силы, что вот стоит захотеть, пяткой ударить, и он взлетит.
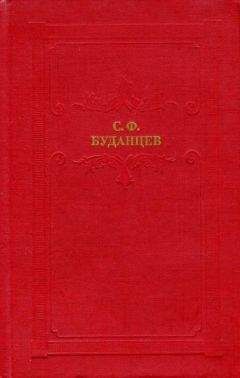



![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)
