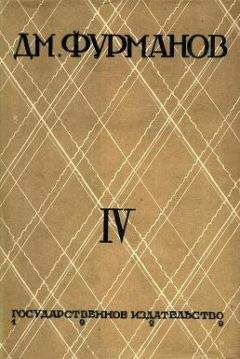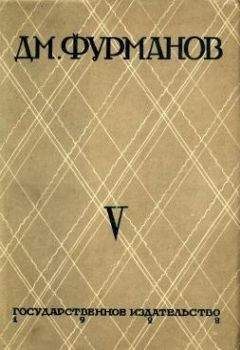Афон, 24/VII.
Багажом пришло ко мне пуда три книг. Попробуй-ка, дотащи по нынешней дороге! Все развезло, осклизло, распустилось. Со мной крошечные саночки (сосед-спекулянт больших не дал). Везу. От станции продвинулся еще всего семь-восемь саженей, а пот так и садит — вижу, что до Арбата не вынесу. Стою, раздумываю, как быть…
— Ай, товарищ-господин, давай я!..
Из толпы выделилась фигура татарина. Зипунишко, лапти, обычная татарская шапка. Дыры, лоскутья, клочья, заплаты. Усы моржовые — темно-рыжие, мокрые. Глаза чуть видны — моргают, слезятся. Голосок тонкий, умоляющий.
— Денег нет, фат, платить нечем будет…
— Мешок картошка везешь? — спросил он, указывая на груз и, видимо, предполагая получить «натурой».
— Нет, книги.
— Книги… Куда книги везешь?
— Далеко, на Арбат.
— Далеко на Арбат. Давай я…
— Так нет, чего же, братец, давай уж лучше вместе, я тоже помогу.
— И вместе харашо, давай вместе…
— Ну, так за сколько же?
— Рупь давай.
— Это сто тысяч?
— Сто тысяч давай.
— Так и быть — поедем I
Мы тронули. Целимся больше на дорогу — тут кое-где сохранились снег и лед. Мчатся автомобили, окатывают нас каскадами навозной жижицы, перегоняют на тротуар…
Спутника моего зовут Шакиром, он беженец с голодного Поволжья. Только вчера похоронил жену, осталась на руках полуторагодовалая малютка; не знает, куда теперь с нею деваться, чем кормить. Сам работы не нашел, околачивается возле больших вокзалов. Но и тут дела Шакиру не даются: саночек нет, купить их не на что, а на ручной багаж монополию захватили станционные носильщики, злобно встречающие ободранных конкурентов. Шакиру за пятьдесят пять, силенок у него осталось немного, на тяжелую работу не годится.
— Таскать все надо, — говорит он. — Есть хочишь — таскаишь. А таскать не будишь — есть не будишь. Ящик таскаишь…
— Да у тебя и силы-то нет, Шакир, где тебе ящики подымать?
— Хлеба хочишь — сила есть, хлеба не хочишь — сила нет.
— А ты обедал сегодня?
— Вчера обедал.
— Ел сегодня?
— Вчера ел.
— А будешь есть?
— Буду есть — ты хлеба дай…
— Дам. А девочка твоя — кто ее-то кормит?
— Дворника жена есть… у нее девочка… Сколько деньги принес — жене дворника отдал, все ей отдал.
— А далеко живешь, Шакир?
— Тагански…
— Это пешком туда и пойдешь?
— Сегда пешком ходим. Деньги дочка нужны…
Я посмотрел ему на ноги. Лапти запутаны в лохмотья, все это намокло, пропиталось навозным соком, грязно…
— Нош-то мокрые?
— Ноги сегда мокрые.
— Болят они у тебя?
— Доктор ходил, сказал — болят ноги…
— Лечишь, значит?
— Больше доктор не ходил, станция ходил, работать надо. Деньги дочка носил.
За долгий путь о чем только не переговорили мы с Шакиром! Он рассказывал, как жил в батраках, как работал, нуждался. И выходило так, что прошлая жизнь была у него только чуть-чуть получше той, что настигла теперь. Он не запомнит времени, когда семья была бы разом и сыта, и одета, и обута. Чего-нибудь всегда нехватало, а семья была в семь человек. Теперь кто поумирал, кто замуж повыходил, остался Шакир с женою вдвоем, да тут еще, на-грех, девчонка родилась.
— Девчонка зря родился, — говорил мне Шакир. — Девчонка не надо родиться… Малака нет, хлеб нет, голод есть — девчонка не нада родиться…
Но делать уж нечего — бьется, а кормит. Теперь, без «бабы» ему совсем тяжело; она хоть что-нибудь сварит, бывало, когда Шакир денег принесет, а теперь и денег заработает, да варить-то уж некому.
— Купишь хлеб, огурец, капуста, вода попил, больше нет ничего.
— И так каждый день?
— Так сегда… Только хлеб не сегда.
— Плохо тебе, Шакир, живется… А будет лучше? Как ты думаешь — будет лучше али нет?
Мне хотелось узнать, ждет ли он чего, надеется ли на что-нибудь. Только я опасался, что не поймет Шакир вопроса. Ан нет, понял; глаза осветились, расширились, помолодели.
— Все будит хароший…
— Так где же хорошо-то, — донимал я его, — посмотри, как ты нуждаешься…
— Сичас нет — и плоха… А когда будит — харошо будит.
— Ты уж не доживешь, Шакир.
— Девчонка жить будит, дочка жить будит…
— А знаешь ты, что такое совет?
— Совет? — переспросил он. — Совет знаю, ходил совет..
— Нет, ты знаешь ли, как он выбирается и что он делает?
Как ни силился Шакир что-то мне объяснить — понять было невозможно. Я стал ему объяснять. Смеется радостно, останавливает меня среди луж и навозных кучек. Извозчики и автомобили обдают грязью, а мы стоим, и возбужденный Шакир, глядя мне в глаза, спрашивает торопливо:
— Бедный человек не будет?
— Не будет, Шакир.
— Все работать будим?
— Все…
— Ленин оказал?
Я радостно вздрогнул от этого вопроса. Мы про Ленина еще не говорили с ним ни слова, Шакир назвал его имя первый.
— Так, значит, и он, этот вот темнейший человек знает, знает и чувствует, что имя Ленина можно называть лишь там, где говорят о труде, что Ленин и труд — одно и то же.
Перескажешь ли все, что говорили мы за двухчасовую дорогу. Только я заметил, прощаясь, что Шакиру слова мои запали на душу, что они ему радостны, что редко-редко, может быть — никогда не говорили еще с ним так, как это вышло теперь…
Взяв краюху хлеба в обе руки, погладывая ее с концов, он уходил от меня веселый и довольный, на свою далекую «Тагански», к голодающей малютке-дочке.
10/III 1922 г.
С Борисом Федоровичем на ночь собрались итти по малину. Места кругом он знает превосходно, тридцать лет ходит по лесам. В девятом вышли, захватили в узелок яйца, хлеб, соль, ватрушки. Корзиночки взяли порядочные, фунтов на десять: «Наберем, — говорит, — ничего, я и больше, по ведру зараз набирал». Пошли. Дорожка по-над озером, идет сначала берегом, а дальше уходит в глубь дремучего соснового бора. Зачались обычные дорожные разговоры— про разное, что в голову придет.
— Леса тут у нас глухие, — говорил он, — глухие, а спокойные. Не было еще случаев, чтобы погибал человек. Разве зимой только замерзнет который, заблудившись. А летом— благодать! Даже девчонки малые и те, как только ночь, а дороги нет — марш на дерево. Притулятся там словно белки — и ничего себе, до самого света. А как солнце подымется, побегут куда-нибудь, на сторожку придут, сторожек тут много кругом, из сторожки и к дому придут… Один раз только, помню, годов тому будет пятнадцать, кучер из Оптиной помещика увез на железную дорогу. Ехал обратно, а его три молодца и задержали, убили и лошадь угнали. Поймали их потом… Один случай знаю за всю жизнь, и тот у железной дороги, не в лесу, а леса наши тихие. И зверь не трогает. Собирал я так-то малину по канаве, а впереди, шагов за сорок — медведь. Поднялся на задние лапы, посмотрел на меня — чего, дескать, мешаешь малину есть… Посмотрел, да и в лес ушел от малинника, а я собирал за него. Самый-то спелый куст выбрал, подлец! Али случай был. Мужичок на телеге ехал. Едет-едет, а лошадь как зафыркает, забьется в оглоблях, нейдет, да и ну тебе. Што за притча, не поймет мужик. Он ее и хлестать, он и гонит, а лошадь бьется, нейдет. Тут он кверху глянул — ан, на дерево медведь забрался, сидит. Смотрит и смотрит, глазами блестит. Ай мужик-то робкий был, как закричит благим матом, лошадь-то перепугал, она и кинулась обратно. Лошадь скачет, а мужик, знай, кричит. Близко косили, набежали мужики. Што да што — он и слова молвить не умеет. Как отдышался — медведь, говорит. Где медведь? Рассказал — они и пошли. А как подходили, Миша слез издалека да и давай валежник месить, улепетывает, только хруст по лесу по всему пошел… Спокойный зверь, никогда, чтобы самому привязаться первому, не тронь его — уйдет… Я гляжу, — заключил Борис Федорыч, — это всегда так случается. Миша вот любит малину, мед, сладкое все любит, а сладость навсегда расслабляет и добродушье дает. Вот он и добрый. Всякий зверь, что сладкого много ест, добрый. И человек даже так, только уж не тронь, а тронешь — такая тут ярость будет, что и у «горького» нехватит ее: все перешибет, сгрызет, изломает.
Мы проходили на широкую лесную дорогу, она выводила на «Егоркину сечь»[1], а за сечью уходила вправо. Мы пошли по взгорью, тропкой. Солнце опускалось. Палево-оранжевыми тонами расплывалось вечернее зарево в темнеющей зеленой листве; пески, блестевшие в полдень серебром, теперь озолотились, но не горели, а чуть мерцали, как миллионы огненных светлячков. Сечь засумерничала. Птицы смолкли. В лесу благословенная тишина. Ветер не шелохнет. Не хрустнут сучья, не скрипнет могучая сосна, не завоет, не застонет вечерний зверь. Тишина. Только мы идем — говорим.