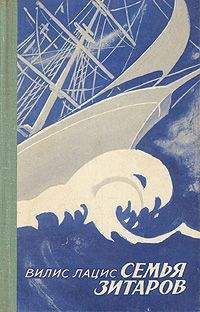— Возможно…
— Мне, право, неудобно. Незнакомый человек…
— Без отговорок. Ты должен прийти. Ты будешь не один. Будет по крайней мере пять девушек. Я должна каждую обеспечить кавалером. Будет и музыка: скрипка, гитара, две мандолины да еще патефон.
— Я плохой кавалер.
— Не смеши. Ты придешь?
— Что же мне остается делать?
— Ты это говоришь таким тоном, словно приносишь тяжелую жертву. Даже вздохнул.
— Каждая попытка внести изменения в привычный уклад жизни — жертва. Я по характеру необщителен и всегда довольствовался своим одиночеством. Тебе и твоим подругам придется извинить меня, если я окажусь недостаточно приятным и остроумным кавалером.
— Ты, наверно, воображаешь, что соберется бог знает какое изысканное общество. Не бойся — все свои люди, такие же, как мы с тобой.
— Хорошо, хорошо. Приду.
— Мерси. Сначала хотела поручить Карлу пригласить тебя, но, предвидя отказ, решила зайти сама. Женщине ведь труднее отказать?
— Возможно.
— Скажи, нас никто не слышит?
— Будь спокойна. Стены довольно толстые, а Андерсониете глуховата. Скорее всего она и не заметила, что ко мне кто-то пришел.
— А с улицы в окно меня не видно?
Волдис невольно засмеялся над такой осторожностью.
— Пусть смотрят, если не видели людей.
— Все-таки… неудобно… в чужой квартире, у холостого мужчины…
Милия смущенно опустила глаза и слегка покраснела.
Волдис встал и задернул занавеску.
Белые нежные руки обвили его шею.
— Дверь заперта? — шепнула Милия.
…Да, такова была невеста Карла Лиепзара, зеница ока единственного друга Волдиса.
Через час он проводил ее до калитки. На улице не было ни души, только у следующего дома в воротах стояли девушка с парнем, они грызли подсолнухи. Когда Милия прошла мимо, они проводили ее любопытными взглядами, пока она не скрылась за углом.
«Придет ли она еще? — думал Волдис, возвращаясь в комнату. — И что она тогда скажет?»
Через несколько дней, идя утром на работу, Волдис встретил Лауму. Она была одета по-другому: голова повязана красным платочком, совершенно закрывающим волосы, на ногах легкие резиновые туфли; в руке она держала завернутый в бумагу ломоть хлеба. Они поздоровались и продолжали путь вместе.
— Вы, как видно, на работу? — спросил Волдис.
— Да, сегодня первый день. Вчера мне объявили, что я принята: одна работница наколола гвоздем руку, и меня взяли на ее место.
— Ну, вы теперь довольны?
— Довольна? Я так рада, что и сказать нельзя. Наконец-то сама начну зарабатывать, не придется каждый сантим выпрашивать у отца.
— Да, жить на чужой счет неприятно.
— Вы еще не знаете мою мать!
— Разве она такая сердитая?
— Как она ворчит и бранится! Я могу носиться с утра до поздней ночи, делать все, что она поручит, — ей все равно не угодишь. Она считает, что я только суечусь и от меня нет никакого толку.
— Вам нужно бы чему-нибудь научиться. Шить, вязать — что-нибудь в этом роде.
— Я уже подумывала об этом. Но везде нужно платить за ученье. Однажды я поступила ученицей к парикмахеру. Месяц проучилась, а потом надо было купить бритву, щетки, машинку для стрижки полос… Когда я об этом заикнулась дома, они закричали: «Кто это в состоянии купить? Где взять такие деньги?» Пришлось бросить…
— Жаль…
— Моя мать хочет, чтобы я научилась ремеслу за один день и вдобавок даром. Понимать-то она очень хорошо понимает, что это пригодилось бы, но то соглашается, то нет. А как дело доходит до расходов — все кончено!
— Может быть, родители и правда не в состоянии помочь вам? Откуда у рабочего человека лишние деньги?
— Конечно, это трудно, но все-таки возможно. Оба зарабатывают, вместе бы что-нибудь и собрали. Но я теперь больше ничего не хочу. Как-нибудь проживу. Работы я не боюсь, лишь бы она была.
— В том-то и беда, что работы нет. Вы долго рассчитываете проработать на лесопилке?
— Пока не выздоровеет та женщина. Может, за это время подыщу постоянную работу.
— Проклятая доля! Рабочий должен ждать, когда другого изуродует или убьет, — тогда он получает работу.
— А остальные тоже ждут, когда с нами случится несчастье.
Волдис наблюдал за девушкой и удивлялся своему первому впечатлению. Лаума совсем не была такой хилой и хрупкой, как ему показалось вначале. Она была не бледная, а просто очень беленькая. Думая о предстоящем ей рабочем дне, тяжелом, утомительном и однообразном труде, ожидавшем Лауму, Волдис помрачнел. Почему женщина должна обливаться потом на трудной физической работе, зарабатывать право на существование напряжением своих мускулов? На лесопильных заводах прежде работали только мужчины, а теперь почти на всех участках места мужчин занимают женщины; но оплачивается их труд ниже, чем мужской. Экономя несколько сантимов, ненасытный капитал без раздумья надевает на женщину ярмо, под тяжестью которого она гибнет, уродует тело и преждевременно старится, так же как и ее предшественник — мужчина.
Волдис нахмурился и замолчал, а Лаума, обрадованная поступлением на работу, казалась совершенно беззаботной.
— Вы еще сердитесь за те подсолнухи?
Волдис покраснел и засмеялся.
— В тот вечер я сам себя не помнил. Мне до сих пор стыдно.
— А ничего особенного и не было. Знаете, вы большой насмешник. Как вы высмеяли моего знакомого!
— Он сердится?..
— Может, и сердится!.. Но вы ведь не боитесь?
— Глупости, Если бы люди дрожали за каждый свой шаг, тогда ничего нельзя было бы делать.
— Здесь нам расходиться, господин Витол. — Она собиралась свернуть налево, к железной дороге, где за небольшой канавой дымила тонкая труба лесопилки.
— Знаете что, — сказал Волдис, останавливаясь и разглядывая лесопилку. — Не называйте меня господином Витолом. Смешно слышать, когда рабочие так называют друг друга. Можно подумать, что они подражают господам капиталистам.
— Как же мне к вам обращаться? Неудобно же сказать: Витол! Эй, Витол!
— Мое имя Волдис. Зовите меня по имени, я буду называть вас… к черту это «вас»! Я буду называть тебя Лаумой. В этом нет ничего предосудительного.
— Хорошо. Тогда будь здоров, Волдис!
— До свидания… Лаума!
Девушка рассмеялась и пошла через дровяной двор к лесопилке. Там ее ожидали другие работницы в красных платочках. Были ли у них у всех белые или просто бледные лица, Волдис не мог сказать; одно он знал точно: у всех были жесткие, грубые, как у мужчин, руки, пальцы в порезах и мозолях, с обломанными ногтями, на ладонях следы неотмывающейся грязи. Но это ведь мелочи! Девушки-работницы вовсе не обязательно должны быть красивыми. Велика беда, если у них от длительной носки тяжестей колени становятся угловатыми, коленные чашечки некрасиво выпирают вперед! Они ведь не дамы. Пусть носят длинные юбки…
Мимо пронесся тяжело пыхтевший паровоз с платформами, нагруженными только что окоренным крепежным лесом.
Лаума уже раза два была на лесопильном заводе в поисках работы. Она знала, где находится контора и к кому обращаться. Здесь работали и несколько ее знакомых, но это были уже старые работницы, и чувствовали они себя здесь, как дома. Они позвали Лауму под навес лесопилки, где в ожидании начала работы толпились рабочие и работницы.
Все они, и парни и девушки, были знакомы между собой и обращались друг к другу на «ты». Некоторые парни говорили двусмысленности, хватали девушек, ломали им руки, всячески старались показать свое физическое превосходство. Девушки ничуть не казались оскорбленными, будто не понимали некоторых слишком нескромных шуток, а на более умеренные довольно бойко огрызались.
За полчаса, пока Лаума ожидала под навесом начала работы, ей многого пришлось наслушаться. Она не была настолько наивной, чтобы не понимать все эти намеки и словечки, и, забившись в угол, опустила глаза и сделала вид, что не слышит болтовни товарищей.
Новенькую в первое утро оставили в покое. То один парень, то другой поглядывали на нее, потихоньку спрашивали, кто это такая, но не задевали.
— Ты стесняешься? — спросила Лауму подруга, Фрида Круминь.
— Как-то непривычно все, — ответила Лаума.
— Только ради бога, Лауминь, не подавай виду, что тебя задевают эти разговоры. Иначе они будут говорить назло. Делай вид, что тебе это совсем безразлично, пусть болтают, что хотят. А при случае заткни кому-нибудь рот крепким словцом.
— Как-нибудь вытерплю.
— Надо терпеть, такие здесь порядки. Хочешь не хочешь — привыкай. К женщинам везде относятся одинаково. Разве ты не видела, как в конторах, на почтамте чиновники задевают своих сослуживиц? Хоть все они грамотные люди, но от этого не легче. Правда, мужчины там говорят деликатнее, смеются и называют все это невинным флиртом, а в общем — это то же самое.